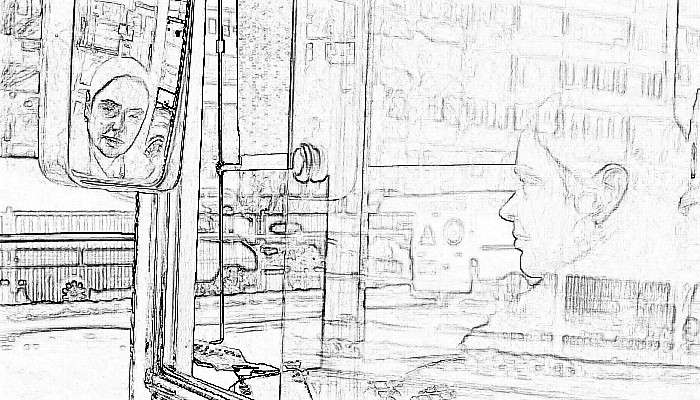Отец диакон
9 февраля 2020 Михаил Парфенов
Повторяем рассказ 2017 года.
Очень краткое введение
Нижеприведенный текст не является в полной мере повествованием историко-документального жанра, хотя и основан во многом на вполне реальных событиях. Портреты героев повествования, равно как и фабула, имеют примерный или, как удачно выразился поэт Михаил Кульчицкий, штрихпунктирный характер. Быть может, читатели найдут в рассказе черты наших общих знакомых, но — уверяю вас — их сходство и сходство персонажей не имеют портретно-фотографический характер.
В рассказе вы не найдете захватывающего сюжета и леденящих душу сцен. Впрочем, как и откровенно смешных эпизодов. Для автора важна прежде всего человеческая изнанка, а уж потом все остальное…
Впрочем, довольно мучить вас — пора и за дело браться.
А дело делаться будет не поскору и не вборзе…
1
Отец диакон поднялся спозаранку. Поспешно нырнул в открытую дверь ванной, спросонок включил душ и торопливо ухватился за полустертую зубную щетку.
С момента своей хиротонии многие вещи отец диакон приучался делать на ходу, и если бы не его природная неуклюжесть, неповоротливость и, как говаривала жена, несклешность, то он наверняка бы превзошел Юлия Цезаря по уровню многозадачности.
Отец диакон от души ненавидел душ — будучи человеком сугубо банного склада, он любил медлительное и всеокутывающее тепло, ласково и одновременно страстно щекотавшее кожу и лежащие близко к ее поверхности сосуды. Душ же воспринимался им как исходящее сверху насилие, неравномерное давление на одну точку, при том, что другие точки тела не испытывали ничего, кроме горячей и столь же малоприятной сырости.
Наспех помывшись, отец диакон так же наскоро оделся и опрометью кинулся в кромешную тьму зимней городской улицы. Впрочем, тьма эта кромешной не была — более того, пара-тройка фонарей обдавала потоками холодного, как и сама пустынно-морозная улица, света. И в свисте тормозных колодок, и в шуршании шин резко тормозивших на светофоре редких авто отцу диакону слышался иерусалимский плач и иерихонский скрежет каменных зубов.
Ранняя начиналась в пять утра, автобусы в эту пору еще даже и не думали ходить, и отцу диакону предстояло пробежать пять с половиной остановок. Посмотрев с тревогой и тоской на экран сотового, отец диакон в два раза ускорил шаг. Впереди, как в полусне, мелькнул железнодорожный переезд с застывшим, как по команде, мертвым шлагбаумом. Откуда-то из-под ограды детского садика выскочила одинокая дворняга, подбежала к отцу диакону, тщательно принюхалась к карману его пальто и, не найдя, по-видимому, ничего съестного, тоскливо приотстала, а потом и вовсе растворилась в сонной зыби морозного утра — без остатка растворилась, как сахарная голова в стакане кипятку.
Врата церковного двора были открыты настежь, и серые силуэты прихожан быстро двигались в сторону исполинской глыбой высившегося посередь двора новенького храма.
— Доброе утро, отец диакон, — слышались из сумрака полусонные и в то же время необыкновенно бодрые скрипучие голоса. Правда, попадались иногда голоса помоложе, иной раз совсем юные, вернее, девичьи.
Отец диакон отвечал рассеянно и невпопад, время от времени ему удавалось даже улыбаться, и он был искренне рад тому, что его вымученно-рассеянная улыбка видна лишь одному Небесному Отцу.
Прихожан на раннюю, по правде сказать, на сей раз было немного. И объяснялось это тем, что служба сия должна была быть всего лишь преддверием иной, более благодатной, восьмижды благодатной, как казалось многим из прихожанок, архиерейской службы. Вот и берегли люди силы на грядущее пятичасовое литургическое действо, которое должен был возглавить не какой-нибудь попик-белокрест и даже не маститый протоотец-камненосец-митраист, а Сам Солнцеликий Предстоятель.
Отец диакон последний раз воздохнул перед храмовым порогом. Ему тоже предстояло узреть этот живой образ Христа, прибытие которого ожидалось не ранее девяти. Но для начала необходимо было разогреться — отслужить раннюю обедню.
Еще вчера вечером отец благочинный как-то чересчур пристально поглядывал на юного отца-недотепу. Не успев еще толком назначиться на этот приход, отец диакон ухитрился опоздать аккурат к визиту грозного царя приходов. Кому-то что-то объяснял посреди храмового дворика и, увлекшись, упустил время. А влетев стремглав в ризную, тут же опрокинул драгоценнейшую митру, стоявшую на самом краю резного столика.
— Медведь! — тихо зарычал благочинный. — Еще раз так сделаешь — с кружкой пошлю стоять в гипермаркет! Понял?!
Через десяток минут за неловкую подачу кадила медведь внезапно реинкарнировал в противного бородатого козла, а козел был вскоре наказан столь же внезапным перевоплощением в тупой сибирский валенок.
Отец диакон в тот вечер понял все: и то, что он нескрабазен, и то, что он не знает и не смыслит ровным счетом ничего в доселе неведомом ему богослужении, и то, что ему еще миллиарды верст до вожделенного иерейства.
— Так вот, — подытожил в конце седобородый благочинный. — Завтра служишь и раннюю, и позднюю. Ты понял, зачем?
— Зачем? — простодушно и непонимающе спросил отец диакон.
— А затем, чтобы потренироваться, — ласково осклабясь, тихо произнес благочинный, с наслаждением застегивая пуговицы зимней рясы.
— Да, гемор — он и в церкви гемор, — прошептал неслышно отец диакон. — Лиха беда начало…
2
Не дойдя пары-тройки шагов до диаконских дверей алтаря, отец диакон остановился, чтобы поздороваться с певчими левого клироса. А заодно и украдкой полюбоваться ими. Чего греха таить, отец диакон был по-своему влюблен в каждую из них.
Старшей, Капитолине, было чуть за пятьдесят, но она была изумительно элегантна, что никоим образом не характерно для клиросных певчих. Ее удивительно правильные черты лица, высокая и аккуратная прическа, еще более подчеркивавшая ее филигранный лик, великолепно подобранные одежды и кокетливая манера общения нравились отцу диакону — он, несмотря на сильную интеллектуальную набожность, оставался глубоко светским человеком и с ходу замечал даже самые малозаметные нюансы женской красоты.
Та, что помладше, Настя, была лет на пять постарше отца диакона. Белоликая и слегка полноватая, она была его идеальным женским типажом. Особенно великолепными казались отцу диакону ее обнаженные по локоть руки, чем-то напоминавшие руки Пшеницыной из любимого им «Обломова», при помощи которых она иной раз умело управляла непослушным штурвалом певческого корабля. Она была истерически набожна, и в этой набожности она плохо скрывала глубоко скрытую страстность. Этот поистине фрейдовский типаж был интересен отцу диакону, который с каждым днем все больше и больше веровал в относительную правоту психоанализа.
Ее подруга Зина, высокая и большеглазая, наоборот, была житейски мудра и рассудительна — отец диакон бы с удовольствием пообщался с ней заместо ранней обедни. Она была его Гипатией, и его влечение к ней было сугубо интеллектуальным и одновременно пронзительно человеческим. От Гипатии веяло каким-то умиротворяющим покоем, и отец диакон на секунду забыл о предстоящем судном дне.
Следом за отцом диаконом подошла улыбчивая Ирина — в ее улыбке было что-то наигранно-детское. Впрочем, это только на первый взгляд: за детской улыбкой невидимо таились какая-то почти старообрядческая суровость и сугубый бытовой морализм.
За ней потянулись не разлей вода подруги Аня и Люся. Рыженькая Аня, жертва маминого православно-педагогического ежоворукавицынского эксперимента, преображалась на глазах в компании подруг, торопливо расставалась со своим незаслуженным и навязанным извне несчастьем, сбрасывала его небрежно, как сбрасывают весной опостылевшее зимнее пальто, — и на время становилась живым, хоть и недолюбленным, ребенком. «А она ведь маленькая еще, — думал про себя отец диакон, — но сколько в ней ранней взрослости!»
Маленькая и худощавая, слегка изогнутая знаком вопроса Люся, в отличие от подруги, не умела расставаться со страданием — страдание сопровождало и пригвождало ее повсюду. И она судорожно искала свою вечную судьбу. Тайно влюбившись, рыдала в голос. И в этом ее рыдании была всепоглощающая боязнь витального одиночества. Она бежала от него — и звук шагов был слышен во всем космосе.
Отец диакон слегка толкнул дверь и через секунду оказался в чисто вылизанной к визиту архиерея пономарке.
3
— Привет обитателям пономарки! — стараясь казаться бодрым, сходу брякнул отец диакон.
— А, это те маленькие зверьки, которые питаются вином?! — раздался чуть хрипловатый голос сбоку.
— Привет-привет, Витек! — пожимая руку, еще бодрее ответил отец диакон. — Шеф-то твой еще не тут?
— Да тут он, в доме причта уже тусит…
Витек деловито протирал держатель дьяконской свечи.
— Вот, — добавил он как бы невзначай, — вчера опять меня вечером загонял по городу. Неймется ему — звонит вечером: айда, мол, освящать — вези меня и все тут! Я у него как прислуга, блин. Мотает меня по каждой херне. Жалею теперь, что из инженеров ушел, а обратно уже и не возьмут…
Шеф показался спустя четверть часа. Это был молодой еще человек с редкой бородкой и толстыми губами на слегка одутловатом и очень надменном лице. Был он чуть моложе отца диакона, но спеси хватало в нем на трех архиереев.
— Привет, отец диакон, — еще в дверях начал Шеф. — А ты че это без подрясника? А ну давай быстрее шуруй на входные! Тебя че, в семинарии ничему не учили, что ли, а?
«Начинается, — подумал про себя отец диакон. — То ли еще будет».
Впрочем, рыкнув слегка на Витька, Шеф медленно и величаво зашагал на входные. Выслушав с некоторым нетерпением монотонное чтение отца диакона, Шеф театрально продекламировал полагающийся ему кусок текста и, истово поклонившись народу, проследовал обратно в алтарь. С такой же поистине художественной декламацией Шеф начал проскомидию. Но дойдя до занудного чтения записок, как-то внезапно сдал и, сойдя с богослужебно-патетической волны, произнес внезапно:
— А ты знаешь, отец диакон, что я на всероссийской олимпиаде по химии первое место занял, когда в школе учился! И когда я школу заканчивал, меня один профессор из МГУ слезно умолял к нему на кафедру податься, а я ему взял да и сказал, что хочу в семинарию, Господу служить. Профессор загрустил сразу, но ничего не сказал… А когда я в семинарии учился, то от нечего делать на филфак поступил. И — за два года три курса окончил. А потом понял, что с филфаком из меня не выйдет достойный пастырь, и бросил. Вот так!
Диакон кивнул с готовностью. Он уже не единожды слышал эти словоизлияния, потому никакого впечатления на него они уже не производили. «Сейчас и до доктора наук доврется, — подумал отец диакон. — И так я уже знаю, что его предки из солнечной Италии при царе Горохе пожаловали и им, предкам этим несчастным, пришлось фамилию срочно менять при большевиках, чтобы избежать пускания в расход… Однако жаль, что прикольнутся нельзя — беды потом не оберешься».
Витек тем временем монотонно выгуживал записки, и отец диакон решил помочь собрату, а заодно избавить себя от слушания очередного сказкомифа…
Наконец, когда дары были приготовлены и накрыты, а каждение храма завершено, отец диакон вперевалку выкатился на солею и во всю силу легких возгласил:
— Благослови, владыко!
— Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков! — с приторной мелодичностью затянул Шеф, переливчато затягивая каждое слово.
— Аминь, — неуверенно и пискляво затянул хор.
Однако уже через полминуты пение выровнялось и стало предельно строгим. Отец диакон старался не частить, заботливо прислушивался к каждой клиросной руладе, но все равно говорил как-то не в тон — то ли медвежий слух мешал ему, то ли просто не было координации между слухом и голосом.
Служба катилась как по маслу почти до самого конца Литургии оглашенных.
На чтении Евангелия отец диакон ошибся с зачалом. Он понял это не сразу, а когда понял, чтение уже подходило к самой середине. Во время коротких вздохов между словами он невольно поймал реплику шефа, обращенную к вошедшей украдкой боковой алтарной дверью матери Агнии:
— Ну придурок же, придурок! Ой, и чему их там учат в семинарии?! Я давно уже говорил, что все дьякона — дебилы!
С трудом не поддавшись назойливому желанию выругаться и разоблачиться, отец диакон на автопилоте произнес три ектении, а когда вошел в алтарь, тут же услышал менторский голос матери Агнии, обращенный к Шефу:
— Мало Вы диаконов ругаете — их надо еще воспитывать и воспитывать. У этого диакона ум как у котенка Барсика. Хотя нет, — и она сделала небольшую цезуру в своей почти речитативной тираде, — Барсик гораздо интеллектуальнее — он хоть мышей ловить умеет! А от дьякона какая польза?
«Вот муха навозная! — со злостью и обидой подумал отец диакон. — Впрочем, мне еще в семинарии дали понять, что обзывать в церкви — это и есть пресловутый метод воспитания, идущий со времен египетских пустынь. Типа выработки смирения. Как у отцов: назовут свинотой — хрюкни благодарно в ответ. Впрочем, и на место мне нельзя никого ставить — сочтут за бунтаря, а бунтарь, как известно, союзник и наперсник знамо кого…»
После причастия Шеф надолго пропал из алтаря — к вящей радости Витька, отца диакона и кротчайшей матери Агнии, с которой они традиционно были не в ладах. Он ушел вещать — и вещал минут сорок, демонстрируя искрометный талант подавать одну и ту же мысль разными словесоплетными комбинациями.
Зато мать Агния с новыми силами приступила к своей излюбленной педагогической работе:
— Наверно, дьякон, с тобой жить трудно. И как жена твоя с тобой живет, не знаю. Ты ж такой глупый и упрямый!
— Вероятно, это так, — стараясь держаться как можно более бесстрастно, кивал головой отец диакон, попутно думая о том, что наверняка, после всех мытарств к вечеру его может ожидать добрая выпивка. И томительная радость грядущего возлияния еще более умножалась от того, что диакон не причащался и не запивал, ибо дважды причащаться в один день почему-то было не положено.
Наконец, речи и возгласы кончились. Шеф пошел отпускать народ крестом, и отец диакон с чувством физического и морального облегчения торопливо стянул с себя жаркий и слегка намокший от пота стихарь.
4
— Привет, отец диакон. Хошь, прикол один расскажу, вчера по радио слышал!.. — пороге появился развеселый пономарь Вася. Коренастый, среднего роста, в неизменных толстых чикариках.
Не дождавшись ответа тормознутого диакона, он чуть вскинул голову и произнес вполголоса:
— Я сегодня выпил водки — берегитеся, колготки!
— Прикольно, Вася, — улыбаясь, поддержал его отец диакон.
— Ну че, как время будет, я тебе один клипчик классный покажу — такая ржака ваще! Угарно! Гадя Петрович Хренова — слышал?!. Слушай, отец диакон, а Теленок еще тут?
— Ага, тут, на солее.
— Понял, — бодро произнес Вася, берясь за вторую коробку с кадильным углем.
Вместе с Агнией они давно прозвали Шефа Священной Коровой, а его неотлучного Витька — Теленком. В свою очередь, отец диакон с Васьком втихомолку звали Агнию старухой Шапокляк, духовные чада Шефа-Коровы звали Агнию просто Мухой.
Не успел Васек заняться укладыванием угля на электроплитку, как на пороге вырос Саня. Простой и немудреный рабочий паренек с высоченной фигурой и грубоватыми чертами лица пользовался особой любовью отца диакона — за некоторую простоватость и особую любовь к чистке кадил пастой Гойя окрестил его просто «Саней Кадило».
Саня Кадило — полная, диаметральная противоположность Васька. Он не был склонен ни к каким шуткам, никого не высмеивал и не подкалывал. Не потому, что не умел это делать, а потому, что считал смех и шутки грехом кощунства. Одно лишь губило его — он мог пить, по Башлачеву, «сутками и литрами».
Присутствие этих двух друзей мало-помалу развеселило отца диакона, и он на секунду подумал, что присутствие Главного — не такая уж и большая жизненная помеха. По крайней мере, Бородатое Божество приедет и уедет, а развеселая компания еще на некоторое время останется. По крайней мере, будет с кем выпить после бури!
5
Пока наши друзья непринужденно трепались между собой, а Священная Корова, тяжело сопя и утирая пот со лба, торопливо стягивала золотую шкуру, алтарь мало-помалу начал заполняться диаконами, иподиаконами, протоиереями и иереями.
Сначала пожаловал диакон-красавец Макарий, верный друг и бессменный собутыльник нашего отца диакона, неизменный предмет восторгов и тайный воздыхатель левого клироса, человек при этом весьма набожный и добрый от природы.
Пожаловал желчный и едкий, но добрый внутри отец Кузьма. Тот самый отец Кузьма Стуров, который, увидев отца диакона впервые на новом месте, произнес ехидно и сочувственно одновременно:
— Вот я-то не знал, куда суюсь, когда рукополагался, но ты, ты… и-эх!
За ним пришел рослый митроносец отец Гавриил Салотопенко, невесть откуда взявшийся в этих местах добродушный и насмешливый суржикоязычный хохол, страстный любитель разного рода ходячих железяк.
Пришел по вышнему зову и жаркий кавказец отец Даниил Гогоберидзе, ценитель прасковейских вин, женской красоты и богословского знания, человек, которого особым образом любил отец диакон.
Неспешной и шаткой походкой вошел отец Семен Тумайкин, истинный эрзя с пятью классами и шестым полутемным коридором, упрямый и смешной, знавший по-церковнославянски лишь одно слово «уст» (так он именовал рот). Как ни бились, подобно рыбам об лед, коллеги по цеху, отец Семен так и не смог осилить златоустовскую обедню, зато искусно и артистически служил «понакидки». Диакон чуть улыбнулся, увидев этого чудаковатого деревенского мордвина, на котором замыкался круг духовенства его родного прихода.
Спустя минут семь с большим чемоданчиком вихрем влетел в алтарь архиерейский диакон Дорофей — человек с глоткой средневекового бирюча, имевший прозвище Хартофилакс. Его наш отец диакон не на шутку боялся, ибо за его нарочитой деревенской простоватостью скрывалось мелковатое и нехитрое коварство.
Минута за минутой алтарь становился похожим на античную агору: кто-то оживленно раскладывал облачение, кто-то делился распоследними вестями, кто-то просто слонялся взад-вперед в поисках знакомых.
Но вмиг все стихло, когда в дверях бокового хода как из-под земли выросла монументальная фигура Благочинного. Благочинный резким движением руки откинул дверь и молча встал в проеме. Он не произнес ни единого слова — лишь казалось, что молнии сыплются из его стальных зевсовых глаз.
Отец диакон застыл на минуту как вкопанный. Он не знал, что предпринять, он не мог сдвинуться с места, ибо прикован был этим пригвождающим к стене взглядом. Он на секунду поднял глаза, но тут же их опустил, наповал сраженный очередной невидимой стрелою.
Тем временем отец Макарий торопливо подбежал к Благочинному и мягким кошачьим движением стал снимать с него зимнюю рясу. Благочинный зло усмехнулся и полушепотом произнес, бросив уничтожающий взгляд на отца диакона: «Дурак!»
Потом Благочинный сделал несколько шагов в сторону жертвенника и знаком указал на отца диакона, чтобы тот спешно облачался и служил с ним проскомидию.
Полумертвый от страха, со сложенным стихарем отец диакон, едва не шатаясь, подошел к холеной руке благочинного и едва выдавил:
— Благослови, владыко, стихарь со орарем… — и торопливо поцеловал крестик на поручи.
— Ты что, дьякон, совсем спятил с ума! — прошипел Благочинный. — Ты обязан мне руку целовать! Руку! Понял или нет, валенок?
— Понял… — упавшим голосом промямлил отец диакон.
Когда же пришло время целовать руку второй раз, он опять по привычке поцеловал поручь.
— Ты че, совсем что ли, дьякон? Издеваешься? — вспылил Благочинный.
— Но я же крест целую, — внезапно вырвалось из уст маленького ничтожества.
— Ну хорошо, может, и тут поцелуешь?! — и Зевс повернулся задом к прислужнику. — И вообще, это говорит о твоей любви к Богу, понял!
— Понял! — по инерции повторил отец диакон.
6
— Что понял? — едким голосом произнес Благочинный и торопливо оглядел алтарь.
Потом молча подошел к горнему месту, попросил у пономаря тряпку и резким движением провел по поверхности архиерейского сиденья. И не успел отец диакон глазом моргнуть, как тряпка полетела ему прямо в глаза.
…Отец диакон и сам понимал, что он неряха и растяпа. Но это были его врожденные качества, он был таковым по природе, он ничего не мог с собой поделать, и оттого его обида казалась еще горше. Он никогда не преследовал цели что-то делать плохо, даже в знак протеста — у него это выходило как-то непроизвольно. Угнетало отца диакона то, что окружающие его попы расценивали его неряшество как нечто умышленное, порожденное его ленью и упрямством. «Как же так, — думал он, — ведь собака не виновата в том, что она кусает и любит мясо, а не пироги с ягодами. Однако, — продолжил он непроизвольно свой неожиданный ход мысли, — собаку все же бьют за то, что она кого-то неумышленно задирает… А значит, мое наказание по идее справедливо, хотя и по-армейски жестоко…»
Так он и стоял минут пять почти не моргая, пока Благочинный не позвал его кадить. Попы стояли молча, безучастно, с тайным страхом глядя на эту архипедагогическую сцену, но возразить никто не мог в силу нашедшей на всех разом окаменелости.
Спустя минут десять после окончания проскомидии в алтарь торопливо влетел архиерейский диакон и гласом глашатая созвал всех на встречу Образа Христа.
«Тон дэспотин кэ архиереон имон… ис полла эти, дэспота!» — грянул громадный архиерейский хор, давно сменивший серых мышек левого клироса.
Дэспот двигался неторопливо и величаво. Он никуда не спешил и был воистину солнцелик. Казалось, он был весь целиком окружен золотым сияющим нимбом. И даже огненно-рыжая его брада, брада Аароня, источала невидимое благоухание мира и вселенский свет благодати.
Все попы и диакона застыли в немом ступорозном величье. Они ни на секунду не смели отвести взгляда от Его мистических очес. Женщины в переднем ряду негромко зарыдали от окатившей их волны умиления, и даже бородатые мужчины с юношами потихоньку начали всхлипывать.
Один низкорослый лысоватый попик подобострастно и с полуулыбкой неспешно облобызал десницу Огненноликого, а потом целая команда прекрасных юношей методично обрядила Образ Самого Христа в такие же солнечные, как его брада, одежды.
А потом наступила совсем небольшая пауза. Пауза, когда сквозь всхлипывания длинновласых юношей и осторожные рыдания бальзаковских полунезамужних дам набирал дыхание грозный Хартофилакс.
7
Громоподобный голос Хартофилакса, казалось, навсегда положил конец этой тягуче-муторной полутишине. И, перекрывая благочестивый рык, на последнем слоге ектенийной фразы все так же надрывно, со страстью грянул стоголосый хор.
Дальше все завертелось довольно быстро: диакона попеременно произнесли три ектении, иереи-протосы змейкой переходили с места на место, пока, наконец, не оказались все внутри вместительного алтаря. Потом сидели на Апостоле и стояли на Евангелии. Снимали и вновь надевали камилавки, клобуки и усыпанные красивыми камушками митры.
Отцу диакону досталась пара ектений перед самым Великим Входом. Волнуясь, он вышел на амвон и судорожно начал листать страницы Служебника. Не нашедши, махнул рукою, понадеявшись на то, что и так знает ее наизусть. И тут произошло непоправимое…
Отчитав короткую «Паки и паки», отец диакон облегченно закрыл книгу, и хор мягко и плавно затянул «Херувимскую» Павла Чеснокова. «Иже Херувимы тайно образующе», — мягко лилось из уст сладкогласого хора. Но едва отец диакон вошел в северные алтарные двери, как раздался резкий голос Огнеликого:
— Остановить! Остановить службу! Я требую остановить!
Хор замолк на полуфразе. Храм, казалось, погрузился в гнетущую тишину. И среди этой тишины чья-то рука неторопливо и властно выталкивала отца диакона вновь на амвон.
Как в бреду, он произнес прошения правильно, но, вернувшись в алтарь, он тут же был испепелен священным взором Солнцеликого. Впрочем, Солнцеликий не стал опускаться до банальных наказаний мелких слуг — милостиво доверил эту священную миссию Благочинному.
— Что, — кипел вулканом Благочинный, — о матушке думаешь во время священнодействия?! Одурел совсем!
— Простите, я больше не буду, — тоном нашкодившего второклассника лепетал отец диакон. — Я не хотел…
— При чем тут «простите»! Он еще прощения просит!.. Месяц без выходных! Понятно?! Ты понял, пень?!
Дальше уже оставалось биться мелкой дрожью. Вздрагивать от малейшего замечания попов, которые явно были довольны тем, что Божество нашло себе утолившее священный голод всесожжение.
8
Впрочем, для Огнеликого в тот день нашлась еще одна великолепная жертва, и ей оказалась самая что ни на есть божественная Священная Корова, стоявшая в типовой и малозаметной черной шкуре где-то в самой дальней точке алтаря.
После причастия на Корову кто-то обратил пристальное внимание, указал ей на то, что она имеет неоценимый дар слова, а потом аккуратненько подтолкнул к Божеству. Божество подумало секунды три и благословило Корову произнести Нечто Благочестивое. И новоявленный проповедник так раздухарился, что угрохал на благочестиво-елейные речи больше получаса. Когда же он, взволнованный, оказался пред Высоким Жертвенником и Ясными Очами, то от волнения вместо того, чтобы облобызать Десницу, он ее просто по-товарищески пожал. Сложно вспомнить ныне, что было потом, но апокалипсис в масштабах одной несчастливой личности наступил незамедлительно.
Отцу диакону было неприятно видеть очередную психологическую казнь, но утробно-предательское чувство злорадства все равно давало о себе знать где-то в потаенных чащобах души.
Когда этот благочестивый ад все же кончился и попы поспешно ринулись провожать Божество, отец диакон, поняв, что он уже мало кому интересен, облегченно поплелся в пономарку потреблять первоочередную пищу пономарей.
Однако не успел он сделать и пяти шагов, как откуда ни возьмись вновь появился благочинный со связкой ключей в руках. Отстегнув один маленький английский ключик, Благочинный торопливо протянул его отцу диакону и промолвил все тем же голосом с металлическими нотками:
— Дьякон, вот тебе ключи от архиерейского туалета. Приказываю тебе сидеть под дверью и сторожить. Как пойдет владыка — откроешь! Понял?..
И отец диакон опрометью побежал стеречь дверь сакрального сортира.
9
Если верить теории относительности Эйнштейна, секунда запросто может оказаться на поверку годом. Не знаю, как насчет года, но почти часовое стояние под дверью священной уборной показалось отцу диакону гармоничным продолжением адовой вечности. Сначала он переминался с ноги на ногу, потом считал воображаемых слонов в виртуальной саванне, потом мало-помалу начал расхаживать взад-вперед по пустому коридору дома причта. И, наконец, не утерпел, ушел в противоположный конец коридора на кухню — поговорить о жизни с поварами.
Когда разговор вошел в самую что ни на есть кульминационную фазу, он поднял глаза и увидел, как Огнелик, сопровождаемый целою свитой липодиаконов, торжественно дефилирует к сакральным белым вратам.
Бежать было уже поздно, но отец диакон все равно неистово рванулся вперед и едва не налетел на внезапно озверевшего Благочинного. Вместо словесного внушения Благочинный, слегка размахнувшись, стукнул отца диакона чуть пониже правого ребра. Удар был несильный, но очень ощутимый. Но тогда отец диакон почти не обратил нам него внимания. Он нагнал Солнцеликого Ра у дверей святого нужника и торопливо вынул ключ…
Архиерей недовольно поморщился, посмотрел на отца диакона круглыми непонимающими глазами, бросил взгляд на одного из попов его свиты, торопливо открывавшего замок собственным ключом, а потом вполголоса скомандовал: «Вон отсюда!»
И — отлегло на сердце… Внезапно и легко — отлегло.
На сегодня оставался только один интересный и вкусный квест — божественный пир.
10
«В христианстве есть две аналоговые модели рая — рай как вечная Литургия и рай как вечная Трапеза. Если обе эти модели воплотятся в жизнь по-епархиальному да по-русски, то, наверное, я бы не захотел никогда в этот жуткий рай…» — так думал наш отец диакон, торопливо разливая водку и вино по рюмкам и бокалам. Ибо не успел он войти в трапезную, как чей-то металлический голос живо напомнил ему, что диакон — это в переводе с греческого «слуга», а участь слуги — наливать. Правда, один из смекалистых попов подсказал отцу диакону и то, что слуга и себя обижать ни в коей мере не должен. Вот он и не обижал. И, как-то непривычно ловко справляясь со стеклотарой, он и сам хмелел вместе со своими рясоносными господами.
— Дорогой Владыко! — гремело в воздухе. — До того, как Вы изволили посетить нашу богоданную землю, здесь была бесплодная пустыня, а ныне стараниями Вашими расцветает в местах сих божественный вертоград!..
— Солнцеликому — Многая Лета! — завершил эту витиеватую речь громобойный Хартофилакс.
…и вновь тонко звенело рюмочное стекло. Вилки вызванивали мелкую дробь о края бокалов, и одинаково-витиеватые речи о том, как насажден был в пустыне бесплодной Дивный Эдемский Сад, сотрясали изрядно загустевший воздух. И в этом загустевшем воздухе, насыщенном речами и этиловыми парами, наливалась и крепла каждый миг накопившаяся за день досада.
…а дальше все помнилось как во сне. Трапезная во мгновение ока встала на дыбы, как взнузданный конь Медного Всадника, пол и потолок вдруг поменялись местами, и отец диакон внезапно почувствовал, как он резко теряет опору. Он ощутил, как его непослушное тело входит в какой-то затяжной штопор.
— Ну что ж, — сказал он сам себе, — раз я скоро разобьюсь, и мне дано всего лишь несколько секунд стремительно уходящего времени, то пусть это время будет ничем иным, как моментом истины, ну, а там хоть трава не расти.
…и он внезапно выпрямился, поднял руки кверху и выпалил с дрожью в голосе:
— Наверное, вам это будет неприятно, дорогие отцы и наидобрейший Огнелик, но я обманулся. Жестоко обманулся. И обманулся во многом благодаря вам! Я думал, что здесь есть Бог. Но теперь я понял, что Бога здесь нет и не будет. Бог в этих стенах — это просто такое кодовое слово, которое запускает механизм зарабатывания бабла. Люди слышат его и почти бессознательно опустошают ради вас кошельки… И я не хочу обманывать ни вас, ни самого себя. Простите, но я закрываю дверь с оборотной стороны… Как сказал некогда еще Мейстер Экхарт, Христос может рождаться сколько угодно раз, но если Он ни разу не родится в тебе — ты мертв. Вы мертвы, и я мертв. Вы делаете так, как будто Христа нет. А я просто Его не чувствую и не вижу…
И, грохнув вдребезги бокал, отец диакон, не оглядываясь, вышел в самое нутро темной морозной улицы…
11
Отец диакон с трудом открыл глаза. Сначала перед ним показался неровный квадрат потолка, который через полминуты мало-помалу выровнялся. Повернув с трудом тяжелую голову, он увидел едва заметную полоску света, чуть струившуюся из ярко освещенного узкого коридора.
Он лежал на кровати в углу поповской комнаты дома причта. Под голову его чьей-то заботливой рукой была подложена мягкая перьевая подушка. Валявшийся в изголовье телефон выдавал девяносто девять неотвеченных вызовов, а на табло его дружно выстроились четыре одинаковых нуля…
— Какой ужас! — едва не плача, произнес отец диакон. — За меня же дома переживают, а я… Свин я эдакий, свин! — …и он опрометью кинулся вниз.
Внизу на вахте в полудреме коротала ночь сторожиха тетя Дуся. Она немного удивленно подняла глаза и спросила спросонья:
— Отец Евгений, Вы домой?
И, получив утвердительный ответ, улыбнулась тепло и добавила:
— Надо, надо, а то матушка с детишками заждались поди.
— Спасибо вам, теть Дусь, — широко улыбнувшись, промолвил отец Евгений.
— Это за что же спасибо? — спросила, подняв брови, тетя Дуся.
— Вам не понять… — глубокомысленно изрек отец и добавил: — А скажите, я действительно какую-то речь толкнул на трапезе?
— Да кто Вас там понять-то мог? Вы как падать начали, отец Кузьма да отец Даниил Вас сразу под руки подхватили да наверх повели. Вы что-там говорили, а отец Кузьма только и приговаривал, что Вас от греха подальше надо увести. Вот и увели. Да Вы не переживайте, все равно здесь никого, кроме нас с Вами, нет…
Отец Евгений стремглав несся домой. Несмотря на жуткую головную боль и мучительные укоры совести, он нисколько не замедлил бег. И причиной его столь быстрого бега было не только желание хотя бы что-то удержать и спасти в личной жизни, но и невыразимое никакими словами счастье обретения того, что неизменно и неразрывно связано с самыми надежными скрепами человеческого общения, имя которым — нежность и теплота. Отныне он не просто человек-функция, не просто чей-то безликий и безропотный слуга, а полновесный человек, у которого есть настоящее человеческое имя.
Иллюстрация: фрагмент этюда Андрея Рябушкина, 1888
Если вам нравится наша работа — поддержите нас:
Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)