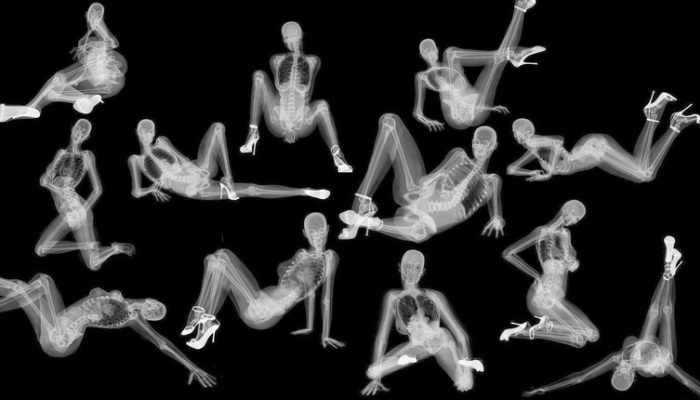Письмо к генералу Х
31 августа 2024 Антуан де Сент-Экзюпери
Антуан де Сент-Экзюпери (1900-1944) — писатель, автор знаменитого произведения «Маленький принц», летчик. Погиб во время выполнения боевого задания: 31 июля 1944 г. самолет Экзюпери не вернулся на базу. Только в начале 2000-х самолет был обнаружен в море около Марселя. Тела писателя-летчика не нашли.
Я только что проделал несколько полетов на «11-38». Это великолепная машина. В двадцать лет я был бы счастлив получить такой подарок. Сегодня же я с грустью констатирую, что после проделанных шести тысяч пятисот летных часов под небесами всех стран, я уже не в состоянии находить удовольствие в этой игре. Теперь самолет для меня — не более, как орудие перемещения, а здесь — орудие войны. И если я отдаю себя во власть скорости и высоты в возрасте — для такого ремесла — патриархальном, то скорее из нежелания оставаться непричастным ко всей грязи моего времени, чем в надежде испытать былые радости.
Это может быть, грустно, а, может быть, и нет. Я ошибался, конечно, именно в двадцать лет. В октябре 1940 года, на обратном пути из Северной Африки, куда эмигрировала Группа 2/33, моя машина, выведенная из строя, была свалена в какой-то пыльный гараж, а я открыл тележку и лошадь. И благодаря им — придорожную траву. И овец, и оливы. Оливы выполняли в моих глазах уже иную роль и не служили мерилом скорости, мелькая за окнами кабины на трехстах километрах в час. Они выступали в своем истинном ритме, соответствующем медленному созреванию маслин. Единственным назначением овец не было определение падения средней скорости. Они снова были живыми. Они делали настоящий навоз и производили настоящую шерсть. И трава тоже приобрела смысл, раз они на ней паслись.
И я почувствовал себя ожившим в этом единственном уголке мира, где пыль благоухает (я несправедлив — она благоухает и в Греции, так же как и в Провансе). И мне показалось, что я всю свою жизнь прожил дураком…
Все это я пишу, чтобы вам сказать, что стадное прозябание в центре американской базы, поглощаемые стоя и за десять минут обеды, хождение взад и вперед между одноместными истребителями СУ-2600, жизнь в абстрактном сооружении, где мы скучены по трое в комнате, — одним словом, эта страшная человеческая пустыня ничем не радует души. И это тоже — как бессмысленные задания без надежды на возвращение в июне 1940 года — болезнь, которая пройдет. Я просто «заболел» на некоторое неопределенное время. И я не признаю за собой права уклониться от этой болезни. Вот и все.
Сегодня я очень печален — печален до глубины души. Мне грустно за мое поколение, опустошенное и утратившее человеческую сущность. Познав в качестве духовной жизни бар, да математику, да Бугатти, оно пребывает сегодня в состоянии полного растворения в стадности, не имеющего уже никакой окраски. Этого не замечают.
Возьмем войну сто лет назад. Подумайте, сколько усилий предполагала она, чтобы отвечать духовной и поэтической жизни человека, или просто даже его домашнему укладу. Сегодня же, когда мы суше кирпича, мы смеемся над этими глупостями. Мундиры, знамена, песни, оркестры, победы (в наши дни мы не знаем ни одной победы, которая по поэтической насыщенности равнялась бы Аустерлицу). Нам известны лишь феномены медленного или быстрого пищеварения, всякий лиризм кажется смешным, и люди не хотят пробудиться в какой бы то ни было духовной жизни. Они просто честно выполняют каторжный труд. Как говорит американская молодежь: «Мы добросовестно выполняем эту неблагодарную работу». И пропаганда во всем мире отчаялась попусту тратить слова. Болезнь этой молодежи не в отсутствии личной одаренности, а в неспособности, не показавшись смешным, опереться на великие животворящие традиции. От греческой трагедии человечество в своем вырождении скатилось до театра г-на Луи Вернейля (дальше ехать некуда!). Век рекламы, век системы Биде, тоталитарных режимов, армий без горнистов и знамен и без заупокойных по мертвым. Я всей душой ненавижу свою эпоху. Человек в ней умирает от жажды.
Ах, генерал! Есть только одна проблема, одна единственная во всем мире. Вернуть людям их духовное значение, их духовные заботы. Дать, как дождю, пролиться над ними чему-то похожему на грегорианские песнопения. Будь я религиозным, по миновании эпохи «необходимого и неблагодарного труда», я смог бы жить только в Селеме (Бенедиктинское аббатство). Нельзя, понимаете ли, нельзя больше жить холодильниками, политикой, балансами и кроссвордами. Больше нельзя. Нельзя жить без поэзии, без красок, без любви. Стоит услышать крестьянскую песенку 15-го века, чтобы измерить всю глубину нашего упадка. У нас ничего не осталось, кроме голоса робота-рекламы (прошу меня простить). Два миллиарда человек не слышат больше ничего, кроме роботов, не понимают ничего, кроме роботов, два миллиарда человек становятся роботами.
Все потрясения последних тридцати лет имеют лишь два источника: безысходность экономической системы XIX века и духовное обнищание. Отчего Мермоз последовал за своим дурнем-полковником (знаменитый летчик Жан Мермоз присоединился к фашистской группировке «Черных крестов», возглавляемой полковником де ля Рокком), как не от духовной жажды? Отчего Россия? Отчего Испания? Люди подвергли пересмотру ценности Декарта: и кроме науки о природе, от этих ценностей не осталось ничего.
И вот теперь перед нами стоит только одна проблема, одна единственная: снова открыть, что есть жизнь духа, более высокая, чем жизнь разума, единственная, могущая удовлетворить человека. Это выходит за рамки проблемы религиозной жизни, представляющей лишь одну из форм жизни духа (хоть, может быть, духовная жизнь неизбежно должна привести к религии). Жизнь духа начинается там, где сущность единства осознается выше компонентов, его составляющих. Так, любовь к домашнему очагу — чувство, неизвестное в США, — уже есть проявление жизни духа.
И деревенские праздники, и культ умерших. (Я говорю об этом потому, что как раз после моего приезда здесь разбилось трое парашютистов, но их словно и не было: их попросту вычеркнули из списков и дело с концом.) Это уже от эпохи, а не от Америки: человек больше ничего не значит.
Надо непременно говорить с людьми.
Стоит ли выигрывать войну, если у нас после этого столетие будут приступы революционной эпилепсии? А когда, наконец, будет разрешен немецкий вопрос, перед человечеством встанут все и истинные проблемы. Маловероятно, что от отвлечения людей, от их истинных забот, с них будет достаточно спекуляций на американских товарах, как в 1919 году. За отсутствием сильной духовной струи, как грибы, расплодятся тридцать шесть партий, которые будут пожирать одна другую. Даже марксизм, одряхлев, распадется на множество неомарксистских сект. Это было достаточно очевидно в Испании. А не то какой-нибудь французский цезарь заключит нас на веки вечные в неосоциалистический концентрационный лагерь.
Ах, какой сегодня странный вечер, какая странная погода. Я вижу из окна моей комнаты, как загорается свет в окнах этих безликих стандартных домов. Я слышу, как радио услаждает своей примитивной музыкой бездельную толпу, прибывшую сюда из-за всех морей, которой неведома даже тоска по родине.
Можно истолковать это покорное принятие действительности как жертвенность, как нравственное величие. Но это было бы величайшим заблуждением. Нити любви, связывающие сегодняшнего человека с существами и вещами, так слабы и так тонки, что человек уже не переживает разлуку как в былые времена. Именно это и имеется в виду в том страшном еврейском анекдоте «Так ты все-таки уезжаешь? Как же ты будешь далеко!» — «Далеко от чего?» Это «что», которое они покинули, было лишь огромным сплетением привычек. В нашу эпоху брачных разводов люди с такой же легкостью разводятся и с вещами. Холодильники взаимозаменимы. И дом тоже, если он только комплекс удобств. И жена. И религия. И партия. Даже невозможно быть неверным: чему бы мы были неверны? Далеко от чего и неверны чему? — Человеческая пустыня.
Как же они благоразумны и спокойны, эти люди, — в массе. А я вспоминаю о бретонских моряках былых времен, высаживающихся в Магеллановом проливе, об иностранном легионе, бросаемом на осаду города, об этих душевных комплексах, стянутых в узлы неутолимых и нестерпимых ностальгий, которые всегда отличали мужчину. Чтобы сдерживать этих суровых и неукротимых людей, всегда нужны были сильная полиция или сильные принципы, или сильные религии. Но ни один из них не отказал бы в почтительности пастушке, стерегущей гусей. А сегодняшнего человека, в зависимости от принадлежности его к той или иной среде, держат в повиновении либо бриджем, либо карточной игрой «беллот». Мы поразительно хорошо выхолощены. И вот мы, наконец, свободны. Нам отрубили ноги и руки и предоставили свободу передвигаться. Но я ненавижу эпоху, сделавшую человека при универсальном тоталитаризме тихой, вежливой и покорной скотиной.
И нас заставляют признать в этом моральный прогресс.
Я ненавижу в марксизме именно тоталитаризм, к которому он приводит. Марксизм видит в человеке производителя и потребителя, и основная его проблема сводится к потреблению. Как на образцовых фермах. И в нацизме я ненавижу тоталитаризм, в который он неизбежно превращается по самому своему существу. Рабочих Рура заставили дефилировать перед Ван Гогом, Сезаном и хромолитографией. И они, конечно, останавливаются перед хромолитографией. В концентрационном лагере морят голодом будущих Ван Гогов, будущих нонконформистов, и кормят хромолитографиями покорную скотинку. Но куда же идут США, и куда идем мы, в нашу эпоху универсального бюрократизма? Человек-робот, человек-термит, человек, балансирующий между каторжным трудом по системе Биде и отдыхом за игрой в беллот. Человек, у которого кастрированы все творческие способности, который не в состоянии даже в своей деревушке сочинить песенку или придумать танец. Человек, которого кормят конфекционированной цивилизацией стандарта, как кормят сеном быков. Вот он — сегодняшний человек.
А я вспоминаю, что не прошло и трехсот лет с тех пор, как писалась «Принцесса Клевская» и навеки уходили в монастырь из-за погибшей любви, так велика была эта любовь. Сегодня люди, конечно, тоже кончают с собой. Но страдания этих самоубийц напоминают скорее бешенство. Неудержимое. Не имеющее ничего общего с любовью.
Сейчас, конечно, только первый этап. И я не могу вынести мысли о том, что многие поколения французских детей приносятся в жертву немецкому Молоху. Сейчас под угрозой само наше существование. Но когда оно будет спасено, только тогда встанет основная проблема — проблема нашего времени. Встанет вопрос о смысле человека, и никакого ответа на этот вопрос я не слышу, и у меня такое чувство, что нас ждут самые черные времена на свете (в истории).
Мне совершенно безразлично, убьют ли меня на войне. Что останется от всего, что я любил? Я имею в виду не только людей, но и обычаи, и неповторимые интонации, и некий духовный свет. Я говорю о завтраке под оливами на провансальской ферме, и о Генделе тоже. Мне нет дела до вещей, которые сохранятся, потому что ценность представляет только связь между вещами. Культура есть благо невидимое, потому что она строится не на вещах, а на незримых нитях, связующих между собой вещи в такой-то, а не в иной узел. У нас будут великолепные, выпускаемые сериями, музыкальные инструменты, но где мы возьмем музыкантов?
Мне наплевать, если меня убьют на войне. Или если я буду уничтожен диким взрывом летучей торпеды, которая лишает какого бы то ни было смысла полет, а из летчика, с его кнопками и циферблатами, делает счетовода (а ведь полет это тоже своего рода связь). Но если я вернусь живым с этой «необходимой и неблагодарной повинности», передо мной встанет лишь один вопрос: что можно, что нужно говорить людям?
Мне все менее и менее понятно, зачем я вам все это рассказываю. Затем, конечно, чтобы хоть с кем-нибудь поделиться мыслями, потому что я не имею никакого права на ваше внимание. Нужно беречь чужой покой и не вносить путаницы в проблемы. В данный момент очень хорошо, что мы выполняем работы счетоводов на борту наших военных самолетов.
С тех пор, как я сел за это письмо, двое моих товарищей уже заснули около меня в нашей комнате. Придется лечь спать и мне, потому что я боюсь, что моя лампа их беспокоит (как мне недостает своего отдельного угла). Эти два товарища по-своему чудесные люди. Это — сама прямота, само благородство, сама чистота, сама верность. И я не знаю, почему, видя их перед собой спящими, я испытываю такую беспомощную жалость. Наверное, потому, что если они не ведают собственной беды, то мне она известна. Да, они прямые, благородные, чистые, верные и бесконечно (вместе с тем) нищие. Им бы так нужен был Бог. Простите мне, если эта противная электрическая лампа, которую я сейчас потушу, помешала спать и вам, поверьте моим дружеским чувствам.