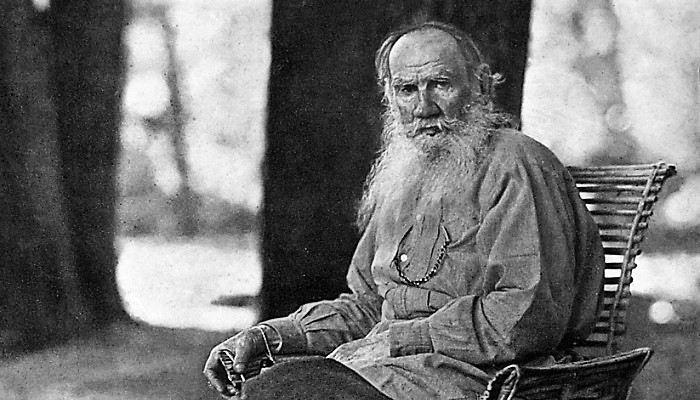«Подпрыгивает, кружится… Большевик… Предатель…»
11 сентября 2019 Зинаида Гиппиус
Введенский Александр Иванович (30 августа/11 сентября 1889 — 25 июля 1946) — обновленческий митрополит, один из лидеров обновленчества.
Предлагаем вашему вниманию отрывки из статьи Зинаиды Гиппиус «Советский батюшка (А. Введенский)», опубликованной в Париже в 1923 г.
***
Как относился тогда к Введенскому народ — «демократия»? Прямых о нем отзывов «демократических» в то время мне слышать не приходилось (о других — много).
Зато в среде забитой интеллигенции, только что потянувшейся к церкви, — Введенский победил все сердца.
— Нет, вы подите, послушайте. Он прямо захватывает! И какой смелый… О политике, впрочем, не говорит. Да и зачем бы он стал о политике?.. Нет, удивительный.
Говорили еще, что он «не боится» изменять богослужение:
— Как первые христиане: врата царские все время настежь. А когда весь народ соберется, — внешние двери запираются. После проповеди бывает общая исповедь. И целую ночь народ в церкви. Что же, разве наше время — не время катакомб?
Наивные рассказы эти (почему у «первых христиан» были царские врата настежь?) ничего еще не говорили ни за, ни против Введенского. Его склонность к переменам или «новшествам» могла быть одинаково делом и хорошим, и дурным. Вообще — интеллигентские прозелиты, примитивно невежественные во всем, что касается религии и церкви, даже навыков не имевшие — ничем меня не удивляли и ничего не объясняли. Но удивила — в первое мгновенье, — «хромая Аня».
«Хромая Аня» — это круглолицая, хитренькая, невинная — и страшная — Судьба царской семьи, «другиня» Гришки Распутина. Анна Вырубова. Она достойна особого рассказа, здесь я упоминаю о ней вскользь, — в связи с Введенским.
Еще совсем недавно Аня нашла в Алекс.-Невской Лавре затворника. Двадцать пять лет сидел в затворе, и никто о нем не знал, а теперь вышел, и она с ним удостоилась говорить. Не велит уезжать. Как ни страшно ей оставаться, — она не уедет.
Но вот Аня уже не поминает о затворнике. Она вся полна Введенским. Мечтает поступить в его «братство».
— Как он говорит, ах, как он говорит!
Восторг Ани породил во мне первое еще смутное подозрение. Очень был характерен. Не сидит ли в «черненьком студенте с анкетой» нечто, Анино влечение и восторг объясняющее?
…В чем было его очарование для прозелитских сердец — и для «хромой Ани»?
Послушать его было надо, и мы пошли — не с поклонниками, меня «на него» звавшими, — а с людьми действительно религиозными. Они его уже знали, но говорили уклончиво: «Сами послушайте».
После этой проповеди дело, для меня, по крайней мере, стало необыкновенно ясно. Когда мы выходили, кто-то спросил: «Ну, что скажете?» Только одним словом и можно было ответить:
— Кликуша.
Да, Введенский не проповедовал — он кликал. Самое неприятное в этом кликушестве — была его нарочитостъ. Может быть, в конце концов, он и себя приводил в транс, как слушателей известного типа; но начинал-то — «нарочно», и впечатление производил бесстыдное, внутренно-нецеломудренное.
Человек до сжатости зубной, тщеславный. Мелко-тщеславный. Завистник шаляпинского успеха. Разновидность типа весьма обыкновенного. Такие люди, при малейше-благоприятных условиях, за них цепко хватаются. И пользуются. И выплывают. И держатся. И уж на все идут, чтоб держаться. В конце концов зарываются и, конечно, проваливаются.
Но у Введенского была одна черточка, она-то и не могла не влечь «хромую Аню».
Тело Гришки Распутина после революции вытащили из-под укромной часовни, где он был похоронен. Долго тело возили на моторе, потом где-то за городом долго и неумело, в сыром снегу, жгли его, потом так же долго и неумело «развевали пепел по ветру». (Подумаешь, чем занимались, на что драгоценное время тратили!)
Развеялся ли пепел по ветру? Не осел ли темной копотью? А если носится в русском воздухе невидимо — не глотнул ли его и «советский батюшка» — Введенский?
В нем, несомненно, было распутинство. На вид совсем иное, по существу очень схожее. Только Распутин — мужик умный, кряжистый, властный и темпераментный. А Введенский жи́док: ума того нет — нет и той уверенности; суетлив, забеглив, и хоть сметка есть — все-таки может «перестараться».
Сидит Введенский в знакомом доме, после завтрака, на диване. А перед ним, кругом, молоденькие «братчицы», барышни в белых платочках.
Смех, визги. Обсуждается вопрос, на ком бы женить молодого псаломщика? «А мы вот на ком его женим», — предлагает батюшка. Визги и хохот усиливаются, предлагают другие комбинации… Словом — веселье вовсю.
«Терпеть не могу сумрачных лиц, — заявляет Введенский. — Христианство — это веселье, красота…»
«Красота» — вот еще что у него. Красота с большой буквы, так сказать. Распутин до этого не доспел (да и плевать ему было на такие фасоны). А Введенский — с украшениями декадентства. Самого настоящего, заматерелого, но для него еще нового.
Он обожает, как Смердяков, — «стишок». Обстоятельства благоприятны; в той области, где он действует, — в церковной, — никаких больше внешних запретов и границ нет: все позволено. О внутренних рамках, о внутренних мерах он, может быть, и не думал никогда. Ему кажется, что наступило время творчества для него, Введенского, — и он начинает «творить», не стесняясь сообразно своей природе. С упоением «подпускает стишок», «обновляет» богослужение… посредством Игоря Северянина. Неистовый Антонин потом, вдолге, потянулся было за Введенским, тоже стал вводить «стишок» в литургию, однако того «модерна» не достиг, ибо и стихи-то читал Марии Конопницкой. Вскоре же, по голосу прежних навыков (он все-таки не религиозный «прощелыга») как будто и совсем отстал от молодого «товарища».
Лекции и беседы Введенского с молодыми «братчицами» были уж совсем «поэтические». Новое распутинство, декадентское, — в известном смысле и не такое, может быть, внешне грубое, — цвело густо. Смех, веселье, декламация… «Чего хмуриться? Гляди веселей…» Это слова уже не Введенского, а самого Гришки. И, пожалуй, в его-то устах они натуральнее. Когда он их говорил — в России не расстреливали (по статистике!) в час по 52 человека. Это лишь в годы Введенского: именно тогда требовал он непрерывного веселья и веселился сам. Час просмеются, другой стишки почитают, — глядишь, 104 человека укокошено, а совсем незаметно. Истинная находка для «советского правительства»!
Неофитским интеллигентским сердцам трудно было не увлечься этой помесью Распутина с поэтическим Смердяковым.
Для «черного» же народа Введенский надумал особую, специальную приманку.
Вышел как-то на амвон и начал:
— Дорогие сестры и братья! Хочу поделиться с вами радостью, милостью Божьей, мне ниспосланной. Господь помог мне совершить чудо…
Далее — пространная повесть о расслабленной, два года лежащей на одре, и о том, как он, Введенский, помолившись, сказал ей «встань», и она встала и стала ходить, и даже Бога благодарила на коленях.
Со своими чудесами Введенский очень возился, постоянно к ним возвращался.
…Но он расчеты строил без «народа», его не зная ни прежде, ни в данный момент.
Для народа, для вот этой демократической толпы, храмы переполняющей, — Введенский был, прежде всего слишком шумен. Забывают, говоря о религиозном подъеме в России, — а это надо помнить и понимать, — что сейчас люди, в церкви стоящие, тихи, так жадно тихи, словно и в церковь-то их потянуло — за тишиной. И нигде нельзя так пронзительно понять, ощутить меру страданья России, как сегодня в церкви, как сквозь эту последнюю тишину.
Была народная молитвенная тишина в м. Вениамине. И не было ее в свящ. Введенском.
О тишине два слова. Мне скажут, может быть: не всегда ли к ней влекся русский народ, поскольку он влекся к религии? И не сущность ли это православия, — подлинного, конечно, — созерцательная, неподвижно покорная тишина? Не в затворниках ли и молчальниках — бездейственная святость его?
Да, возможно. Но я не говорю сейчас об этом. Не сегодня будем рассуждать, судить о православной церкви. Сегодня я говорю о новой тишине народа, идущего в церковь, в храм, — о тишине страданья. Когда оно вот дошло до черты какой-то, и уж больше не вместит, раздавит сейчас… тогда ползут под ним, не думая ни о чем, инстинктивно, и приползают в церковь. И там замирают — без слов, без звука, только со вздохом тихим, и уж такое облегчение, что можно вздохнуть.
Лишь об этом я говорю, и так оно действительно и есть.
Надрыву, шуму Введенского (помимо «поэзии») с этим нечего было делать. Он мог вызывать ответные, отдельные кликушества. И только.
Не захватывали народа и «чудеса», объявляемые с амвона. Общая настроенность и жажда тишины заставляли выслушивать эти объявления с угрюмым недоверием.
Поэтому и ненависть к Введенскому. Когда он зарвался и потерял себя у ног сов. власти, вспыхнула сразу так бурно. Никто не удивился, узнав, что «бритый» и в буквальном смысле предал Вениамина. Поверили тотчас. Я не знаю, продолжал ли Введенский и в 22-м году так же «льнуть» к Вениамину, как льнул в 20-м; думаю — продолжал, только с оглядкой по сторонам. Во всяком случае, чекисты, налетев в Лавру за Вениамином, застали их вместе. Было тут и еще несколько священников. Чекисты в лицо Вениамина не знали. Введенский поспешил указать: «Вот он!» Неизвестно, «дал ли целование», но это не помешало народу заклеймить его именем Иуды (и правда, похоже), а затем и проломить ему голову камнем, при выходе из здания суда, где «Иуда» показывал против Вениамина.
После такого народного подарка сов. власть стала думать, куда ей девать своего лакея в рясе. Решила посвятить его в архиерейский сан (почему советской власти, раз она власть, не посвящать архиереев?), сделать митрополитом даже — и отослать в Сибирь. Но, видно, и там пошел слушок: беспокойно. Дело замялось.

Однако в Петербурге Введенскому не житье, и он мечется. Атмосфера затаенной ненависти душит его и рождает непрестанное ощущение страха.
Некто, на днях приехавший из Петербурга, рассказывает: шел он по улице, навстречу поп, весь бритый. Мужик, рассказчику незнакомый, прохожий, — толкает в бок: «Видал?» — «Чего видал?» — «А Иуду-то нашего окаянного, Введенского. Ишь, заголился! Ровно большевик. Чтоб его…»
Старушка, самая простая, но неглупая, повествует: «Была нынче у обедни, а там Введенский. Врата царские настежь, он в алтаре, страшный: крест у него кверх ногами скачет, кружится и все приговаривает: я Бог, я Бог!»
Не думаю, чтоб он это приговаривал или крест как-нибудь перевертывал. Но это не важно. Важно, что его видят внутренно, и видят верно. «Подпрыгивает, кружится… Большевик… Предатель…» Таков «глас народа». И, пожалуй, в данном случае — действительно — «глас Божий».
Читайте также:
Если вам нравится наша работа — поддержите нас:
Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)