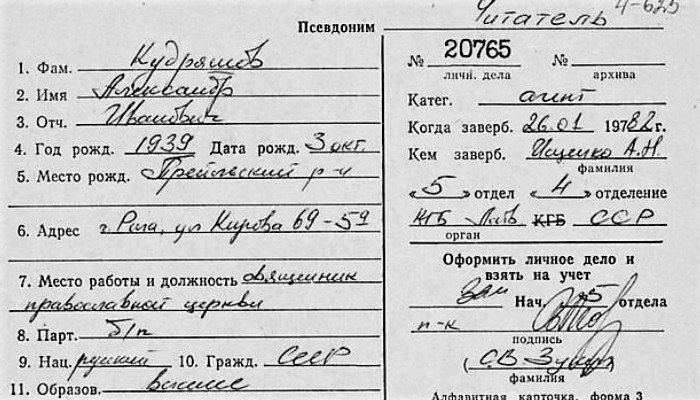Кошмар
10 сентября 2022 Сергей Гусев-Оренбургский
Сергей Иванович Гусев-Оренбургский (5 октября 1867, Оренбург — 1 июня 1963, Нью-Йорк) — русский писатель. Окончил духовную семинарию, шесть лет служил в сане священника. Позже отказался от сана и посвятил себя творчеству. В 1921 году эмигрировал в Харбин, в 1923 — в США.
I
Короткий осенний день клонился к вечеру, а о. Автоному оставалось доходить по приходу еще дворов сорок. Он быстро шагал вдоль порядка поселковых изб, ссутулившись, в сером подряснике, подоткнутом у пояса. Продолговатое еще молодое лицо его было деловито-серьезно, а глаза из-под шляпы беспокойно косились на телегу, куда ссыпалось подаяние: прошел он сто дворов, но едва набрал полвоза тощей и сорной пшеницы. С неприятным чувством отвел он глаза от телеги, хмуро смотря на длинную улицу, кривую и скучную: на ней полинялые от непогод избушки казались вросшими в землю, точно страшною тяжестью давило их покрытое тучами небо. В тишине улицы носилось что-то беспокойное… От ворот к воротам перебегали женщины и, жестикулируя, перебрасывались тревожными фразами.
— Перчиха! — постучал батюшка в окно избы, — выноси, что ль, пшеницы-то. Да не держи, ради Бога. Дождь скоро… ночь на дворе!
— Сичас! — торопливо ответил женский голос.
Через минуту из ворот вышла дородная женщина, неся большую, до верха насыпанную пудовку. При виде пудовки батюшка ласково улыбнулся, и лицо его стало добродушнее.
— Щедрое даяние и Богу приятно, — сказал он. — Сыпь в мешок.
Он с довольным видом любовался, как мешок вздохнул, распух, слегка переломился и с приятным шелестом улегся на возу. Сам уложивши мешок поудобнее, о. Автоном собирался идти дальше, как в сером воздухе где-то далеко возник и замер женский жалобный крик. Перчиха перекрестилась и вздохнула.
— Господи, грехи… всюду беззаконие. Ни от кого нет защиты.
— Что случилось? — спросил о. Антоном. — Повсюду я вижу какое-то беспокойство.
— Девок осматривают, батюшка.
— На службу, что ли, берут? — усмехнулся о. Автоном.
— Родила девка, видишь ты, в тайности… подкинула младенца к есаулу на крыльцо. Ну, правительство-то наше, — Александр Петрович, — распорядился осмотреть. Теперь казаки с бабками ходят по избам… Мне вот тоже идти надо, а уж так не хочется. Девчонок мучают! Ведь она, которая родила-то, может от сраму руки на себя наложить!
Перчиха понурилась и подперла щеку рукой.
— Что оно хочет, то с нами и делает, наше-то правительство…
На крыльцо соседней просторной крытой железом избы вышел тучный человек в мундире казачьего вахмистра, с медалями на груди. Лицо его было багрово, словно вываляно в черном пуху, покрывавшем подбородок и щеки, усы закручены.
Он вежливо сделал под козырек батюшке и крикнул на женщину.
— Перчиха! Не держи батюшку разговорами. На работу марш.
— Спех напал!.. — ворчала Перчиха, уходя. — Хоть бы на что доброе…
— Марш, не разговаривать!
О. Автоном, любезно посмеиваясь, подошел к атаманскому крыльцу и поздоровался с атаманом за руку.
— Все дела, Александр Петрович…
— Мы люди занятые… хе-хе…
— Касательно девиц?
— Родят подлые девки и младенцев подкидывают. Ну, да я эту мерзость выведу. Мне сам атаман отдела сказал: искореняй, ежели что заметишь.
— Ну, уж это, — сказал батюшка, отводя глаза, — не относительно девиц, вероятно.
— Касательно всего… Все, — говорит — вахмистр, искореняй! Чтобы ничего не было!
— А насчет пшенички у вас поживиться можно?
— Коли есть за что давать-то, — шутил атаман.
— Хе-хе. А кого мы намеднись за молебном поминали на ектении в числе мудрых правителей… а также благодетелей храма Божия? Дьякон-то старался до хрипоты голоса…
— Хе-хе… Насыпем! Да ведь вам ежели пудовочку, так скажете, поди, мало?
— Две, конечно, лучше. Но хватит ли щедролюбия у дающего?
Атаман засмеялся грубоватым смехом.
— Этак вы и от амбара не откажетесь,
— В ню же меру мерите, возмерится и вам!
Пока они так шутили, из калитки вышел работник, неся такую большую меру пшеницы, что батюшка кашлянул, потер руки и невольно произнес:
— Похвально!
В то же время он заметил бежавшую по улице к атаманскому крыльцу простоволосую казачку. Она еще издали кричала что-то гневное и угрожающее, а за нею ото всех ворот спешили бабы.
— Разбойник! — задыхалась она, подбегая к крыльцу. — Что твои лихие псы делают… смотри!
Худая, высокая, с молодым, но уже желтым, сморщенным лицом и беспокойными глазами, она в возбуждении еще более рвала на себе изорванную кофточку, обнажай белую грудь.
— Смотри! Силком укладывали, руки вывернули. Смотри! В синяках я! Как ты смеешь так позорить! Я к наказному атаману…
— Молчать! — сердито крикнул атаман. — Вот прикажу и вас всех, баб, осмотреть да в холодную запереть. Марш отсюда!
Бабы обступили священника.
— Батюшка! Ведь нам защиты нет. Замучил он нас своими распоряжениями! Вступись!
— Друзья мои, я тут ни при чем! — хмуро сказал батюшка. — Я не имею никакого права вступаться в распоряжения начальства.
— Батюшка!
— Нет, нет, друзья мои.
И он слегка приподнял шляпу перед атаманом.
— До свиданья, Александр Петрович. Ночь, домой пора. Спасибо.
— Не прогневайтесь.
Он медленно пошел за подводой.
Со степи стал набегать воющими порывами ветер.
Черные, лохматые тучи клубились вверху, точно там в зловещей тишине ползло чудовище, сжимая и разжимая мохнатые лапы.
Издалека доносился сквозь сумрак крик облавы:
— Пе-е-е-рчи и-ха!
— Си-и-ча-а-а-с!
Тяжелые капли стали падать на землю.
II
О. Автоном сам ссыпал пшеницу в сусеки, с наслаждением прислушиваясь к ее шелесту. Редкие капли дождя глухо ударялись в крышу; ветер с каким-то усталым выражением свистел над коньком амбара, точно утомленный бесконечным и бесплодным бегом.
— Двенадцать… тринадцать, — шептал о. Автоном в темноте, как скупец наворованное золото.
Кончив, он шумно вздохнул, перекрестился, благодарно взглянув в черное небо, и направился к дому.
Едва он вошел в сени, как под ноги ему с заглушенным плачем бросилась женщина.
— Кто тут? — глухо спросил он, испуганно вздохнув.
— Я… Татьяна! Вдовухина дочь!
Она пыталась охватить его ноги руками и припадала головой к его грязным сапогам.
— Защити! — гулко шептала она. — Спаси… батюшка!!
— Встань! Чего тебе? Скажи толком!
При сумрачном свете о. Автоном увидел молоденькую, тщедушную девушку, бледную, с мокрым от слез и искаженным от ужаса лицом. Платок ее упал на плечи, волосы растрепались, глаза блуждали, будто не видя священника.
— Это… я! — шептала она в лицо ему судорожно вздрагивающими губами, хватая руками воздух, — точно искала ими опоры, боясь покатиться в какую-то пропасть.
— Ну? Чего… ты? — недоумевал батюшка.
— Я… младенца!
Она опять повалилась ему в ноги.
— Не выдай к осмотру! Спаси меня!
О. Автоном в недоумении развел руками.
— Ну, что же я за спаситель! — сказал он. — Что могу сделать? Зачем грешила! Кто в грехе, тот и в ответе.
И, не зная, что еще прибавить, сказал:
— Нет ничего тайного, что бы не сделалось явным.
Она отчаянным жестом схватилась за голову.
— Куда пойду?! Не к кому! — Ты священник! Защити меня! — бессвязно и быстро говорила она. — Я тебе, как на духу. Не сказывай никому! Не дай к осмотру! Не погуби! Возьми меня… работницей буду. Всю зиму… сколько продержишь… Даром буду! Скажи, со вчерашнего нанял. У тебя не тронут. Я сильная! Молотить умею… косить. За работника буду! Зимой в лес пошли… Запряги меня! Избавь от сраму… Не выдай! Не дай к осмотру… Не дай меня!..
О. Автоном быстро отпахнул дверь в кухню.
За дверью стояла попадья.
— А я, — сказала она, отходя от двери и посмеиваясь, — думаю, кто шепчется? Не Василий ли шашни завел. А оно вон что!
Когда-то тоненькая и грациозная брюнетка, она немного расплылась от деревенского безделья, но глаза у нее были живые и умные.
— Войди, не стесняйся, Танюша, — говорила она, — я ведь все равно до словечюшка слышала.
Татьяна вошла, закрыв лицо руками.
— Вот она просит, — сказал батюшка, — не давать ее на осмотр. Да не знаю как…
Он криво усмехнулся.
— В работницы просится… без жалованья, дескать.
— А ты и обрадовался? — сощурилась попадья.
Батюшка вспыхнул.
— Я тебе ее слова передаю… нечего мне радоваться! Аль опять яду накопила на кончике языка?
— Погоди ругаться. Времени для этого у нас достаточно. Скажи, что с Таней-то делать?
— Почем же я знаю?
— Хозяин ты в приходе-то или нет?
— Я — священник! Вмешиваться в распоряжения начальства не имею власти. Дело это не по духовному ведомству, по гражданскому.
Попадья усмехнулась и с оттенком меланхолии посмотрела за окно, в ненастную тьму.
— Жалко, ведь, — сказала она, — девушка-то славная… давно ее знаю. С кем не бывает грех. Все — люди!
Услыхав сочувственное слово, Татьяна с громким плачем бросилась в ноги матушке.
— Пропащая я! Защити, матушка! — Рабой буду… на век!
Она закрывала лицо руками, и сквозь пальцы ее брызгали слезы.
Попадья темными глазами посмотрела на мужа.
— Обстоятельство сложное и затруднительное! — развел руками о. Автоном в ответ на ее безмолвный вопрос. — Что мыслимо?
— А по-моему вот что, мыслитель, — резко сказала попадья, — раз человек доверился нам, нельзя его выгнать. Танюша! Не плачь. Умойся у рукомойника, да займись делом, будто ты давно тут. Не показывай и вида, коли придут. Против судьбы не пойдешь, а там увидим. Ставь-ка, пока, самовар, батюшка с прихода пришел… устал.
О. Автоном пожал плечами и ушел в комнаты.
Он ходил по зале, задумавшись, перебирая и пересматривая привычные мысли, как ветхие страницы давно наизусть заученной книги. Под завывание ветра за окном, под беспокойное дрожание ставней росло в нем что-то туманное, жалость ли, протест ли, что-то бесформенное, как ноющая боль, которая родит во сне жалобный крик и дикие грезы. Но мысли его, определенно-ясные, как капли холодного дождя падали в туманную и бесформенную мглу души его.
Ветер за окном, точно отдохнув, усилился и теперь с воем и свистом, как кто-то живой и испуганный, бросался на землю, хватался за ставни, потрясая их, взвивался к тучам, ища выхода из тяжелой тьмы. Как дух, потерявший дорогу, обескрыленный, он выл над трубой жалобным, отчаянным воем:
— А-а… а… а-а-а!
Попадья вошла в залу, зажгла лампу и со вздохом опустилась на диван.
— Ты, кажется, недоволен? — сказала она.
О. Автоном раздраженно повел плечом.
— Почему же? Очень доволен! Ты удивительно умна бываешь… по субботам.
Она усмехнулась.
— А ты удивительно хорошо говоришь проповеди о любви… по воскресеньям!
— Любовь, любовь! — раздражился батюшка. — Мы не в небесах живем. О небесах-то, пока что, мечтать приходится.
— Мечтатель, подумаешь…
Он быстро к ней обернулся.
— Я, матушка моя, не мечтатель! — рассуждал он перед нею рукой. — Я разных ваших… книг там, которыми вы увлекаетесь, не признаю-с! Я прежде всего практический человек. И если я, Божиею милостию, иерей, то желаю быть прежде всего благоразумным иереем, отнюдь же не сумасбродом, Иерею же присуща быть должна в делах мира сего мудрость…
— Змия? — подхватила попадья и, сжав губы, засмеялась.
— Это выражение из Писания… что же! И не источай ты на меня, пожалуйста, своей слюны. Вот тебе, как супруге иерея, подобала бы кротость голубя. Начитались там разных… крейцеровых сонат!
— Уж какие там крейцеровы сонаты, — тихо рассмеялась попадья.
Она вздохнула, откинувшись на диван, и по лицу ее разлилась скука.
Смягченный ее примирительным тоном, о. Автоном остановился перед нею и заговорил вполголоса, чтобы не слышно было в кухне.
— Мне ее жалко! Пойми! Я жалею! По-евангельски жалею. Как Христос блудницу. Ведь и Тот не дал… камнями побить…
— Ну, вот и поступи, как Христос, — сказала попадья.
— Да… но… Он боролся с властью обычая, но не с властью лиц. И разве теперь те времена? Разве я Христос? В жизни, кроме сожаления, любви и прочих чувств, есть еще и практические отношения к людям. С ними как быть? Ведь и Христос в затруднительных случаях поступал осмотрительно, давал благоразумные ответы. «Воздайте, — сказал Он, например, — кесарево кесареви, а Божие Богови»…
— Удивительно, — с иронией сказала попадья, — как это вы, священники, текстом из Писания умеете все оправдать.
О. Автоном отскочил от нее, как ужаленный, заметался по комнате и, вдруг выбросив обе руки по направлению к жене, закричал.
— Не беси ты меня!!
Но тотчас же снова подошел и, все еще взволнованный, остановился перед нею и заговорил горячо и быстро.
— Почему у нас луга в лесу, на лучшем месте? У предшественника моего, о. Занозина, на болоте луга были… осока одна. У нас трава — мед! Кто нам пашню из казачьего пая выделил? Амбары и сараи кто построил? Да, одним словом: кто хозяин в поселке? Разве я? — Атаман! Александр Петрович! А потом… дрова! Баню кто обещал построить? Кто ругу вместе с казенным для нас собирает? Ссориться мне с ним? Поссорься-ка! Подлец, скажешь? Знаю! Да будь он хоть расподлец! Ведь у него все в руках! Тот — кум, другой — сват, третий — приятель… Потревожь-ка, он атаман… властитель…
О. Автоном исподлобья смотрел на жену, наблюдая, какое впечатление производят его слова.
— Жалко, — говорил он, — а нельзя… Ничего нельзя сделать! Он поставит на своем! Бабки наперед всех девок знают. Стало быть, не дощупаются одной, сейчас вопрос: — Где? — Ответ: у батюшки. — Вопрос: когда, зачем, по какой надобности? — Ответ…
— Катехизис практического священника! — лениво улыбнулась попадья, не изменяя своей скучающей позы.
— Опять слюна! С тобой поговорить-то нельзя!
Она вздохнула.
— Не разберешь, кому ты служишь: Богу или… атаману.
— Служу я делу! — осердился батюшка. — А ты… дура!
Он, беспокойно, волнуясь, забегал по комнате, приготовляясь сказать жене еще что-то убедительное, но в этот момент над домом пролетел сильный, как шквал, порыв ветра. Точно гневный дух, не находящий исхода из тьмы и мрака, — дрожащих, но не уступающих его порывам, — он обнял дом, взвыл, злобно дохнул на стекла окон, обдав их брызгами. Ставни захлопали, пытаясь сорваться с петель, во дворе что-то с грохотом упало, хлопнула сенная дверь, а в окна, казалась, забарабанили десятки рук, и насмешливые лица зловеще глянули из мрака, искажаясь от изломов стекол.
— Как странно мне всегда в такой ветер! — сказала попадья, темными глазами смотря за окно. — Точно смел он со света все живое, а я осталась одна в пустом доме… Бессильная, заброшенная…
Батюшка сердито повел плечом.
— Началась философия!
Кухонная дверь с треском распахнулась.
В комнату вбежала Татьяна, как мука бледная, руки ее ловили воздух, а губы беззвучно шевелились. Она повторяла какое-то одно слово с непередаваемым ужасом в голосе.
— Что с тобой?! — бросилась к ней матушка.
— Идут! — лепетала Татьяна.
— Кто?!
— Идут!
Матушка быстро вышла в кухню, посмотрела в окно: черная ночь, дрожащая тьма…
— Дурочка! — вернулась она. — Это ветер! Успокойся… неси-ка лучше самовар!
III
Татьяна внесла самовар.
Она пыталась улыбнуться над собственным страхом, но миловидное, худое, детское лицо ее было еще бледно, и она дрожала.
— Девочка! — ласково глядела на нее попадья. — Совсем девочка. Танюша! Сколько тебе лет?
— Шестнадцать, — проговорила она, застенчиво, но с благодарной нежностью взглянув на попадью.
И вдруг схватилась привычным жестом руками за голову, с диким взглядом:
— Идут!!
Метнулась в кухню, куда-то за печку, в угол, шелестя там какими-то бумагами.
Ветер отпахнул ставню в кухне и опять захлопнул.
На крыльце послышались шаги.
Дверь из сеней отворилась; в нее, не торопясь, с некоторою торжественностью вступил атаман, за ним бабки и несколько дневальных. Сквозь их толпу протискался дьякон и, поздоровавшись с батюшкой, прошел в залу, говоря по пути:
— Копием пробожу тя — и восплачет Рахиль о детях своих.
— Лисичка-то у вас? — сказал атаман батюшке с грубым смехом. — К вашему дому следок привел.
Он кивнул на Татьяну.
— Нанялась к вам, что ли?
— В работницы, — сказал батюшка, — у меня ведь, вы знаете, Митревна-то ушла.
— Когда нанялась?
— Да когда… Татьяна, ты вчера что ли, нанялась к нам?
— Вче…ра! — едва проговорила та.
— И ночь эту провела у вас? — допытывал атаман.
Батюшка замялся.
— У нас! — ответила за него попадья.
Атаман насмешливо посмотрел на батюшку.
— Как же ваш работник говорил, что не видал ее?
— Уж вы допросили! — слегка нахмурился батюшка. — Можно бы прямо у меня спросить. У всех работников глаза на затылке, а у моего Якова и те косые.
— Это даже весьма невероятно! — засмеялся атаман. — В одной кухне ночевали, друг друга не видали.
— Она у меня в комнате ночевала! — сказала попадья из залы. — Что-то мне нездоровилось ночью, она за мною ухаживала.
Атаман оттопырил губы и слегка выпятил грудь.
— Уж простите, батюшка! Как-никак, а мы ее уведем от вас. На часок не больше. Только в душу заглянуть, хе-хе! Трех девиц не досчитались: две уехали, а третья у вас.
Он обернулся к Татьяне.
— Марш!
Татьяна, дико вскрикнув, прижалась в угол и загородилась корытом с только что приготовленным тестом. Потемневшие глаза ее с животным ужасом впились в лицо батюшки.
Щеки батюшки заалели.
— К чему вы это, Александр Петрович, — сказал он, — у меня в доме… такой скандал!
— Дело служебное! До вас это, батюшка, не касается.
— Прошу вас! Оставьте!
— И я вас тоже прошу! — сказала попадья, выходя в кухню. — Александр Петрович! Пожалуйста! Не мучьте девчонку! Я вам ручаюсь за нее, что у меня она ночевала… Чего же вам еще?
— Извините! — сказал атаман. — Это для меня даже очень удивительно, что вы блудницу покрываете! Из всего вижу, что она и есть преступница! К тому же Татьяну вчера вечером дома видели и сегодня, когда она к вам шла. Слова ваши, так сказать, противоречат. И вообще, дело это вас не касается. Я хозяин в поселке.
Он стал понемногу надуваться, точно вбирая в себя воздух.
— Это дело служебное! Мы здесь… правители!
Попадья заступила Татьяну и сказала, нервно улыбаясь, как бы шутя:
— А все-таки я вам ее не отдам!
Атаман побагровел.
— Возьмем силою. Уж простите, матушка…
— Бить будете? — вся вспыхнула попадья.
— Не доводите, матушка, до крутых мер! При всем уважении, не могу вам уступить…
— Александр Петрович! — сощурилась попадья. — Да имеете ли вы, вообще, право так поступать… с девицами-то? Ведь это насилие… А ну, как вы и в законе себе оправдания не найдете?
Атамана словно кто ударил в спину.
— Что-с? — вспыхнув, выпятил он грудь и тотчас слегка охрип: — Закон? Матушка… отойдите-с! Батюшка, прикажите вашей матушке отступить, иначе мы составим акт о сопротивлении властям… и об укрывательстве-с!
— Поля! — сказал батюшка. — Оставь!
Атаман обернулся к дневальным, мигнув на девушку.
— Взять! Скрутить руки назад!
Ветер снова ударил в окна, точно забарабанили в них десятки рук. Как дух всего темного, бессознательного, искусно связанного, с злобным воем и свистом бежал ветер над домом, потрясая его в своих попытках найти выход из кошмарных пут.
В борьбе с Татьяной казаки оттолкнули корыто.
Оно упало, и рыжебородый казак с выпуклыми наглыми глазами наступил прямо на тесто.
Татьяна вырвала руки и отчаянным жестом протянула их к священнику, произнося детски-жалобные и бессвязные слова…
Ее увели.
Дождь с новою силою захлестал по стеклам.
Кто-то черный и мокрый, забрызганный грязью, казалось, заглянул в окна и с негодующим воплем обнял дом, пытаясь встряхнуть его.
— Присаживайтесь, о. дьякон, — сказал батюшка, нервно прохаживаясь по комнате. — Поля, налей-ка нам чайку с дьяконом.
— Наливайте сами, — глухо ответила попадья из спальни, — я не могу…
Батюшка сел и стал разливать чай,
— Да-а-а, — говорил он. — Всюду беззаконие. Хотя оно… с другой стороны… «несть власть, аще не от Бога»! Но все-таки оно… как-то неловко! А впрочем… Их ответ!
Дьякон молчал и чему-то посмеивался.
Это был маленький, лысенький старичок, с добродушно вздернутым носом и козлиной бородкой.
— Семь баб под арест посадил! — заговорил он. — Шел я сейчас мимо холодной… стучат там, ругаются. Хе-хе! Мужья прибежали, гвалт!
Смеясь, дьякон разевал беззубый рот.
— Воин… атаман-то! Архистратиг! Яко огненным мечем безбожных агарян разит. А у вас есть водочка, батюшка?
Он потирал руки.
— Холодок на дворе-то… дождит! А дьяконица все-е-е припрятала…
Батюшка поставил перед ним графин.
Дьякон выпил и сразу приободрился.
— Оно, конечно, — взмахнул он худыми руками, — неудобно сие… с девицами-то! Но рассудите по умственному… Ежели все девки будут вне брака жить с лицами мужского пола, так ведь это нам… оно того… прямой ущерб. Обыскные книги за окно бросай!
Батюшку поразила эта новая точка зрения.
— А ведь это верно! — сказал он. — Совершенно верно!
— Оно, конечно, — продолжал дьякон, — жалостно видеть, когда с дерева ветви срубают. Но ежели они гнилые? Ведь сия девица в разврате жила. Ну, вот… оно того… яко смоковница бесплодная посекается и во огнь ввергается.
— Опять-таки верно! — вскричал о. Автоном, ударив ладонью по столу. — Если с практической точки зрения на дело взглянуть, то жалость жалостью, — а разврата нельзя поощрять. Он — заразителен. В нынешнем народе и то благочестия совсем не стало. Порассудишь, так и излишняя власть правителей… на благо!
Дьякон любовно погладил рукою графин.
— Стеклянное сердце! — подмигнул он батюшке. — Можно еще? Все дьяконица-то припрятала. А у меня скорбь…
— Какая?
— Так… не знаю! Всегда в ветер у меня… тоска! В брюхе холодно…
— Выпью и я с вами, — налил батюшка рюмки, — что-то и у меня… в бок колет.
Попадья вышла из спальни, заплаканными глазами смотря на собеседников.
— Пируете? — усмехнулась она. — «Пир во время чумы»?
— А мы, — сказал батюшка, утирая усы, — Татьяне-то твоей обвинительный вердикт вынесли.
— Татьяна! — уныло и точно во сне сказала матушка, темными глазами смотря за окно, точно видела там сотни острых и холодных глаз, смотревших на нее с загадочным упреком. — Уж что… Татьяна! Мы все как… под могильной плитой! Видим тягучие сны и не можем проснуться.
Она взялась за грудь.
— Давит… давит!
— Что давит? — с некоторым испугом спросил батюшка, думая, что попадья захворала.
— Всех давит! Что-то… не знаю что! Глыба какая-то… давит!
Она сделала руками жест, точно опускала что-то тяжелое, и вздрогнула от удара ветра в крышу. Казалось, на крышу обрушилась туча и, разбившись в холодные брызги, обдала ими окна и зашелестела по улице.
О. Автоном пожал плечами.
— Пошли опять… крейцеровы сонаты!
Попадья вдруг вся нервно сжалась и закричала:
— Оставь ты свои пошлые слова! Съел ты меня ими!
— Ну, ну, успокойся! — отмахнулся о. Автоном. — К слову я…
— Так не говори ты… не говори ты мне этих пошлостей, — кричала она с истерической ноткой в голосе. — Не плюй ты на все… святое!
— Не скандаль!
— Да уж… вся-то наша жизнь сплошной скандал!
— В благородном семействе! — криво усмехнулся батюшка. — Постыдись хоть посторонних…
Она поднесла руки к лицу и хотела сказать еще что-то обидное и сильное, но вдруг расплакалась и ушла в спальню, выкрикивая сквозь слезы.
— Разве это жизнь!? Кошмар!!
Дьякон смущенно улыбался и потирал руки.
— Батюшка!
Он опять любовно погладил графин, подмигивая о. Автоному.
— Стеклянное сердце… белая кровь!
О. Автоном не слушал его, раздраженно барабаня пальцами по скатерти.
— Нервы… все нервы! Замучила она меня… с нервами!
Он машинально протянул руку к рюмке.
Но они не успели выпить.
Где-то за окнами раздался беспокойный говор, — стукнула калитка, сенная дверь.
В залу вбежала Перчиха.
У нее мокрый платок держался только на одном плече, на лице виднелись ссадина и кровь.
— Что же это такое делается! — возбужденно кричала она. — Батюшка, батюшка! Что же ты смотришь? К кому же еще идти?
— Что там случилось? — вскочил батюшка со стула.
Попадья выставила из спальни бледное лицо.
— Батюшка! Батюшка! — вне себя кричала Перчиха. — Что они делают разбойники! Суда на них нет? Я вступиться хотела… Смотри, что они со мной сделали! Писарь-то на Татьяне кофту изорвал… за грудь схватил. «Молоко! — говорит, — она!» — При казаках велел осматривать, атаман-то! Повалили ее на скамью… рубашку заворотили!
Попадья вскрикнула и схватила со стола белый платок.
— Я сама пойду… Пойдем! — звала она бабку. — Пойдем… Где это? Я сама пойду!
— Поля! — вскричал батюшка. — Нельзя! Куда ты!
— Я сама пойду… коли ты…
— Нельзя! — ловил он ее за руку. — Что тут можно сделать! Только на неприятность нарвешься… Прошу тебя! Я лучше сам пойду… сам!
Он беспокойно засновал по комнате, ища шляпу.
В кухонную дверь ворвалась другая бабка, махая руками и едва выговаривая слова.
— Танька… утопилась!
IV
Ветер разорвал тучи и разметал черные клочки их по небу. Клочки бежали, точно в ужасном смятении, спасаясь от невидимой беды и, очистив купол неба, как у запертых ворот, толпились у горизонтов. Мелькая, между ними всходила багровая луна, бросая кровавые отблески на поселок, на степь, на реку.
По берегу реки, жестикулируя, сновали тени людей.
— Правей! Левей! — кричали они лодкам, бороздившим речную воду, похожую на кровь. — У березок смотри! У осоки… багром-то!
Гигант, церковный сторож Фалалеич, зашел по колено в воду и пускал коробочки и щепки, наблюдая, куда они плывут. Но здесь, в водовороте, все они плыли в разные стороны, его примета не действовала.
— Надо бы, — обернулся он, — в колокол бухнуть! На звон утопшее тело всплывает.
— Беги, Фалалеич! — кричали ему. — Бухни!
Бороздя воду, он вышел и тяжело побежал, как слон.
Над рекою поплыл глухой удар колокола.
Бабы с жалобными криками метались по берегу, где-то казаки грубо ругались с атаманом.
— Разве ты можешь так! Где такие права?
С лодок закричали.
— Во-т она! Нашлась! Здесь она!
Берег всколыхнулся, и тени быстрее засновали.
— У березок…. Ташши ее!
— В лодку-то нельзя… опрокинешь!
— Возьми за косы!
Голоса на берегу слились в общий возбужденный говор, будивший по реке куликов и стаи диких уток, беспокойно сновавших в воздухе. Луна, все еще большая и багровая, выше и выше всходила над полями, точно вздрагивая от порывов ветра. От темных фигур людей бежали длинные, черные, прыгающие тени. С жадным любопытством все ждали лодку. На лодке один из гребцов держал пук волос, будто черные водоросли, и за лодкой плыло белое тело. С шуршащим шумом вышло оно из воды, точно мертвая русалка всплыла над рекою.
Бухающий удар колокола опять пронесся над рекой.
На бугре показался батюшка.
Он бегом спустился по крутой тропинке.
— Мертва? — нагнулся он к утопленнице.
— Бог весть…
— Как, Бог весть? Так чего же вы не качаете?
— Качать надо! — закричали в толпе. — Полог где?
— Ребята… За пологом! Беги!
— Да где?
— К Онуфрию… рядом тут!
— Когда полога ждать! Кафтан давайте! Фалалеич! Скидавай кафтан!
— Дерюга у меня… разорвется! Вот… у Миколая.
— Миколай! Скидай!
Маленький Николай стал было убеждать, что после утопшей нельзя будет носить кафтана, но десятки рук уже уцепились за рукава кафтана.
— Снимай силком! Когда тут ждать!
Николая вытряхнули.
Тело утопленницы с глухим шелестом засновало по кафтану, уже не протестуя, что сотне глаз открывалась нагота его.
— Вы насильник! — шептал батюшка атаману, зло смотря на него. — Что вы делали в правленьи? Хорошие дела! Что у вас? Застенок? Какое вы имели право так поступать?!
Смущенный атаман не знал, что отвечать.
— Крепче качай! — кричал он, проявляя необыкновенную распорядительность. — Миколай! Чего встал? Положите ей голову пониже.
Среди тесного круга утопленница неустанно сновала по кафтану, точно в лютой скорби не находя успокоения. И все эти люди, недавно враждебные ей, с трепетным чувством жадно следили за ее глухой борьбой со смертью.
Вода ручьем полилась сквозь синие губы Татьяны.
Она простонала.
Радостное волнение охватило толпу.
— Жива! Жива!
Вскоре Татьяна стояла на дрожащих ногах, дико озиралась, не приходя в себя…
Матушка поддерживала ее под руку с одной стороны, Перчиха с другой. Толпа тесным кольцом окружила ее и повела. Кто-то предложил надеть на девушку кафтан, и Николай тотчас протянул свой, кто-то накинул ей на спутавшиеся волосы шаль. Точно все вдруг стали ей родные, все, преследовавшие ее, презиравшие за проступок, загнавшие на илистое дно. Исчезли на момент все кошмарные путы, и тяжелые руки, завязавшие их, будто растаяли в воздухе.
Купол неба был чист.
Луна всплывала все выше по светлому небу, точно спасаясь от чудовищных рук, уже вновь тянувшихся к ней от горизонта.
Процессия медленно взбиралась на крутой берег.
Позади шли атаман и батюшка.
— Ваш поступок по существу безнравственный! — говорил о. Автоном. — Это — превышение власти! Это насилие над беззащитной девушкой! Как могли вы… как хватило у вас бессердечия… Не говоря уже о полной незаконности! Это произвол!
Он чувствовал искреннее негодование.
В этот момент он встретился со взглядом жены. Попадья удивленно обернулась к нему, точно недоумевая, и на миг в черных глазах ее, отражавших свет луны, блеснуло смутившее его пламя.
— Обо всей этой истории, — закончил он, — мною будет доложено его преосвященству, владыке Амвросию, а также его превосходительству господину наказному атаману.
Он повернулся и пошел в другую сторону.
Атаман нагнал его.
— Батюшка!
О. Автоном молча уходил.
— О. Автоном!
Атаман пошел с ним рядом, заглядывая в лицо ему, говоря смиренно сдержанным голосом.
— Не выдавайте-с!
— Я не укрыватель!
— Ведь мало ли что случается… во всяком быту-с. Семейное дело… промеж себя! Признаться, я… конечно! Ведь с этим народом как иначе! Ох, тяжелы эти наши обязанности… правителей-с! Ведь… по долгу службы!
— Хороша служба — девок срамить!..
— Конечно… погорячился я!
— Это объяснение и подавайте по начальству.
Батюшка с мрачным видом шагал по площади.
Атаман не отставал.
— Ваше высокоблагословение! Усиленно прошу! До сих пор была у нас, можно сказать… дружба-с! Пригодимся еще друг другу… Пожалуйста, оставьте!
Батюшке приятно было, что атаман так унижался перед ним.
Он приостановился.
— Я сказал и повторяю, — строго заговорил он, — такого возмутительного дела оставить не могу!
Атаман казался уничтоженным.
Он приложил обе руки к груди.
— Ваше высокоблагословение! Что хотите? Луга в Заречьи? Мигните только! Вы, должно быть, гневаетесь на меня за что-нибудь? Простите! А что касается руги… Да Господи! Чай, свои люди… Выколотим! Это наша власть! Только скажите… А что касается дома… как дворец выбелим… штукатуркой!
Батюшка набрал полную грудь воздуха и взглянул на небо, где, как лохматые руки, тянулись к месяцу объятья туч.
Они еще долго стояли посреди площади, бросая черные тени. Некоторое время слышны были отдельные слова, разрываемые ветром: «Промеж себя»… «То-то смотрите»… «Наказный атаман»… «Касательно бани»…
Потом они разошлись.
У ворот батюшку догнала попадья.
— Ну? Что?! — запыхавшись, тяжело дыша, жадно спрашивала она мужа, впиваясь в лицо его черными глазами из-под платка.
Ему показалось, что он давно не видал у нее такого оживленного лица, блестящих глаз и этого особенного, страстно-ждущего выражения в них, точно от слов, которые он сейчас скажет, зависит все дальнейшее ее существование.
— Что — «что?» — переспросил он ее ее же словом.
— Как у вас… с атаманом-то? Ведь ты… не простил ему этой… подлости? Ну, конечно! Разве можно ее простить! Ну, что? Жаловаться будешь? Как поступишь?
О. Автоном отвел глаза и заметил, что тучи поднимались с полей, напоминая клочья пропитанной сажею ваты, будто вся грязь земная поползла на небо, залепляя синеву его безобразными комками. Хмуро посмотрев в глаза попадьи, в которых вспыхивал трепет радостного ожидания, он сказал, тихо и неохотно, берясь за кольцо калитки:
— Нельзя! Он человек сильный… Помирились!