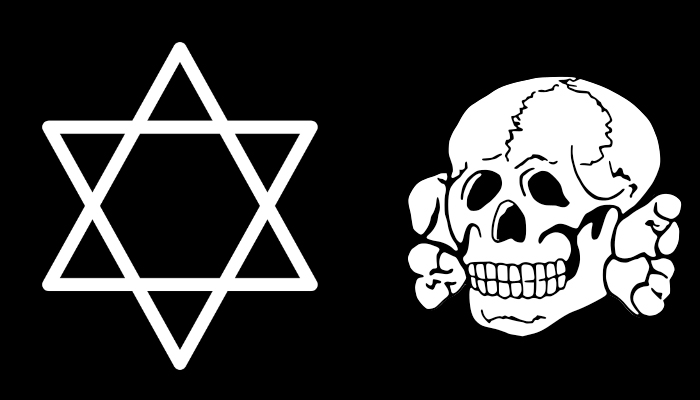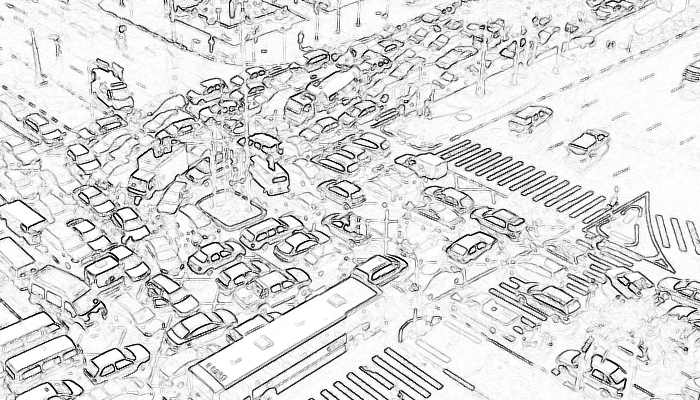Шуберт и Пастернак
17 сентября 2022 Григорий Мармур
Профессор, доктор филологических наук, уважаемый в литературных кругах человек, Пастернак Борис Львович всю свою долгую и, в общем-то, успешную жизнь гордился тем, что он является полным тезкой знаменитого поэта. Конечно, отчество, оно — другое, но имя-то и фамилия одинаковые!
Случалось, некоторые люди, не бывшие в знакомцах у Бориса Львовича, интересовались, уже не тому ли самому Пастернаку он является родственником. На что профессор снисходительно улыбался, всплескивал руками и говаривал:
— Ну что вы?.. Отнюдь. Только полные тезки!.. — но затем, выдержав недолгую паузу, загадочно молвил: — Хотя… Кто знает… Может, где то и пересекаемся кровными узами…
Немудрено, что и тема докторской диссертации была посвящена поэту и называлась: «Влияние грузинской культуры на позднее творчество Пастернака».
Благодаря своему именитому тезке, Борис Львович сделал замечательную карьеру в литературе и в родном университете, что, впрочем, было абсолютно заслуженно — профессор на самом деле искренне любил поэзию и прозу знаменитого Пастернака и, что там греха таить, отлично в них разбирался.
Наружность Борис Львович имел самую обыкновенную. Ростом невысок, полноват и лысоват, и только крупный нос и большие уши выдавали в нем семитское происхождение.
Студенты в общем и целом любили как самого старика, так и его лекции. Когда он читал, он преображался, забывал об аудитории; складывалось впечатление, что профессор разговаривает сам с собой. Еще не было случая, чтобы на вопрос студента о творчестве или жизни поэта Борис Львович отвечал: «не знаю».
Прибавляли очков и ходившие в университете слухи, мол, когда-то, эдак лет двадцать назад, во время очередной переменки, в учительской собрались педагоги и за чаем, неизвестно как, образовалась дискуссия о роли евреев в Великой Отечественной войне.
Один из преподавателей, некто Пермяков, язвительно заметил, что ни для кого не секрет, что евреи всю войну отсиделись в Ташкенте.
На что Борис Львович, будучи тогда в звании доцента, подошел к Пермякову и что есть силы влепил ему пощечину!..
При всех!
На сторону Пермякова никто не встал. Все промолчали.
А Борис Львович демонстративно вышел из учительской.
Этот учебный год обещал быть несколько беспокойным для Бориса Львовича — первый раз университет принимал иностранных студентов на филологическое отделение.
Будущие студенты сначала по правилам должны были зубрить основы русского языка, и только после этого приступить к изучению русской литературы.
У Бориса Львовича раньше не было опыта работы с иностранцами и, признаться, он пребывал в некотором недоумении; донести до студента, с трудом изъясняющегося по-русски, тонкости российской словесности — это было за рамками его понимания!
В любом случае, от него ничего не зависело, студенты были приняты и нужно было с ними работать.
К счастью, оказалось, не так страшен черт, как его малюют. Обнаружилось, что иностранных студентов набралось всего- ничего пять человек, все они были германцами и, к удовольствию нашего профессора, недурно говорили по-русски.
Ребята были по-настоящему влюблены в русский язык и, до приезда в Россию, успешно его изучали.
Особенно выделялся среди них студент по фамилии Шуберт.
Юрген фон Шуберт.
Это был более чем настоящий представитель славного немецкого народа. Дворянин, но не холеный; достаточно высокий, но никак не длинный; с хорошей фигурой, светлой шевелюрой и приятным, улыбчивым лицом. Особенно замечательным было то, что Юрген, при всех его достоинствах, не был задавакой.
Юрген блестяще говорил по-русски и производил на окружающих хорошее впечатление.
Все девчонки курса были от него без ума. И немудрено! Кому ж не хотелось отхватить себе такого жениха! О такой партии можно было только мечтать!
Но сам Юрген особенно на девчонок внимания не обращал. Его любовью была русская литература. Особенно поэзия. Ей он признался в любви. Ей он отдавал чуть ли не все свое время.
И неудивительно, что благодаря этой самой любви Юрген Шуберт и Борис Пастернак сблизились настолько, что по выходным профессор приглашал студента к себе домой и, по старой русской традиции, они пили много крепкого и горячего чая, произведенного в Индии, и долго-долго с жаром дискутировали о поэзии и поэтах, о различии литературы немецкой и литературы русской, и еще о многом, многом другом.
В этот раз темой их обсуждения стало пребывание Пастернака в Германии и его произведения, написанные в этот период.
Пока Борис Львович готовил чай, Юрген декламировал:
— Я вздрагивал. Я загорался и гас.
Я трясся. Я сделал сейчас предложенье, —
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне — отказ.
Как жаль ее слез! Я святого блаженней.
— О, да, Юрген! Вы замечательно читаете! И стихотворение это, на мой взгляд, изумительное и совершенное, — профессор мечтательно уставился в потолок. — А между тем оно считается ранним в творчестве Пастернака. Можно с уверенностью сказать, что эта его работа является началом пути в большой мир поэзии. Кстати, Юрген, вы знаете историю этого произведения?
— Конечно, профессор! Оно называется — «Марбург». И написано Пастернаком в Марбурге, в то время, когда он учился в местном университете. А посвящено оно Иде Высоцкой, дочери знаменитого чаезаводчика, которая по случаю тоже была там, и которой поэт сделал предложение руки и сердца, но увы, она ему отказала.
— Браво, мой мальчик!.. Браво!
— Скажите профессор, а вы бывали в Марбурге?
Борис Львович, наливавший в это время чай в стаканы, вдруг помрачнел:
— Я никогда не бывал в Германии и никогда не буду.
Воцарилось молчание…
Затем Юрген, сомневаясь, — спрашивать или нет, все-таки, осторожно спросил:
— Простите, профессор, причина в том, что наша страна сотворила с вашим народом?
Борис Львович не отвечал… То ли не желал этой темы… То ли не хотел воспоминаний…
Он достал сахарницу и печенье, наполнил вазочку клубничным вареньем и повернулся к серванту, намереваясь достать розетки.
Юрген, чтоб как-то успокоить любимого учителя, все-таки продолжил:
— Борис Львович! Наше поколение, в отличие от поколения наших дедов, напрочь лишено антисемитских настроений. Поверьте, я знаю, о чем говорю! Вы — такие же, как и мы!
Тут наконец Борис Львович повернулся к Юргену:
— Что значит, такие же, как и вы?!. А раньше, во времена ваших дедов, мы были другими?! Или, скажем, сто лет назад?.. Тысячу?!.
Нет, дорогой мой друг! Мы всегда были одинаковыми. Скажу тебе больше! И ваше отношение к нам тоже никогда не менялось… Да и не изменится никогда!
Юрген привстал со стула:
— Борис Львович, я…
Но профессор его перебил:
— Знаю, Юрген… Знаю… Ты не такой… Я же не утверждаю, что каждый человек ненавидит евреев. Конечно, нет. Но большинство относится к нам не как к другим нациям, я бы сказал, с предубеждением, — он сел на стул напротив Юргена. — Знаешь, интересны истоки такого отношения к нам. Кто-то скажет, что мы распяли Христа… Ну, во-первых, указание на казнь дал Пилат, римлянин… Но вы же за это не ненавидите итальянцев?!.
Может, причина в том, что среди нашего брата много по-настоящему богатых людей?.. Банкиров, финансистов, которые, вроде как, захватили мир и тайно им управляют! Но ты как никто другой знаешь, что среди нас также много талантливых художников, поэтов, музыкантов и ученых, которые дали миру ничуть не меньше, чем другие народы!.. Как с этим быть?..
Юрген слушал и молчал.
— А может быть причина в том, что у нас нет своей Родины?!. У нас она была, Юрген! Но пришли дяди, более сильные, чем мы, разрушили наш храм и выгнали нас!.. И теперь нам приходится жить среди вас! И мы как бельмо на глазу для всех… Путаемся у вас под ногами!
— Что такое бельмо? — спросил Юрген.
— Не важно!.. Важно, что проблемы, дорогой мой друг, легче искать у чужака, нежели у себя! И мы для этого очень даже подходим!..
Настроение у обоих было безнадежно испорчено и хорошего разговора о литературе в этот раз, увы, не сложилось.
Юрген еще немножко посидел для приличия и затем откланялся.
Утром следующего понедельника Борис Львович зашел как обычно в аудиторию, поздоровался со студентами, оглядел всех и, к своему удивлению, не обнаружил среди сидящих Юргена Шуберта.
Профессор сел за стол, достал из портфеля журнал, открыл его и спросил:
— Дежурный, доложите, будьте любезны, все ли на месте.
— Юрген Шуберт не явился.
— Вам известно, что случилось?.. Ему нездоровится?
— Говорят, он уехал на Родину.
Это известие неприятно укололо Бориса Львовича: «Неужели наш последний разговор с Юргеном явился причиной его отъезда?!. Бог мой, как нехорошо!.. Мальчик среди всех — самый лучший!.. И зачем я, старый дурак, вообще начал обсуждать с ним эту тему… Только расстроил парня…
Однако ж, делать нечего, нужно начинать лекцию», — Борис Львович вздохнул, еще раз оглядел всех и начал урок…
Через пару недель в квартире Бориса Львовича Пастернака раздался звонок в дверь.
«Странно, кто бы это мог быть, — подумал профессор. — Вроде никому не назначал», — но все же пошел открывать.
Отворив входную дверь, Борис Львович увидел стоявшего перед ним Юргена Шуберта, который заботливо поддерживал за руку импозантного старика. Старик этот был одет в модный плащ и шляпу, опирался на явно стоящую хороших денег трость, и, несмотря на свой преклонный возраст, не растерял военной выправки и мужского шарма.
— Здравствуйте, профессор, — Юрген был несколько взволнован. — Простите, что без приглашения.
Борис Львович ровным счетом ничего не понимал и переводил взгляд с Юргена на старика и со старика на Юргена.
— Ах, да! Простите, — спохватился Юрген. — Прошу любить и жаловать, мой дед — Клаус фон Шуберт.
Услышав свое имя, старик с достоинством кивнул головой.
Теперь пришел черед спохватиться хозяину дома:
— Что ж мы стоим на пороге… Пожалуйста, проходите.
Юрген помог деду снять плащ и шляпу, стянул с себя куртку, и вместе они зашли в гостиную.
Сели на диван. Клаус с интересом рассматривал мебель и картины на стенах.
Борис Львович, стоявший посреди комнаты, посмотрел на Юргена:
— Неугодно ли чаю, господа… Или, может быть, кофе?
Юрген повернулся к деду и перевел сказанное Борисом Львовичем на немецкий.
Клаус благодарно кивнул:
— Danke, tee bitte.
Юрген тут же перевел:
— С вашего позволения, чаю.
— Не нужно переводить, — Борис Львович сдержанно улыбнулся Юргену, — я знаю идиш, а он вырос из немецкого.
Пока профессор приготавливал чай, он слышал, как Шуберты разговаривали, но о чем — он не мог понять, было неразборчиво.
Потом пили чай и неловко молчали.
Когда Клаус отодвинул от себя пустую чашку, Юрген тут же обратился к профессору:
— Борис Львович. Я рассказал деду про вас. Он выразил желание увидеться с вами и поговорить. Простите, что без предупреждения, — затем повернулся к Клаусу:
— Дедушка, ты можешь говорить.
Дед Юргена был настоящий аристократ!
Он для начала выдержал минутную паузу.
Затем, высоко подняв подбородок и смотря Борису Львовичу прямо в глаза, начал:
— Я — Клаус фон Шуберт. И я бывший нацист.
И снова пауза… Верно, для того, если вдруг профессор отреагирует на это несдержанно.
Но Борис Львович молчал.
— Причем, я был наци по убеждению. Это другие вступали в партию, потому что верили в эти сказочки, будто немцы потерпели поражение в первой мировой войне из-за евреев!
Я же имел стойкое убеждение, что только арийцы и есть настоящие люди. Остальные же — низший сорт… Причем, скажем, поляки или русские, для меня они стояли выше, чем румыны или албанцы. Ну а евреи и цыгане — это были недочеловеки.
У Бориса Львовича ни один мускул не дрогнул.
— Простите меня, профессор. С вашего позволения я продолжу. Все-таки, как я и сказал, во мне течет кровь аристократа, и поверьте, я не убивал ни цыган, ни евреев. Презирал — да! Но не убивал.
Другое дело — война, сражения. Тут я могу признаться — на моих руках есть кровь. Но я солдат!.. А убивать гражданских — увольте!
Мне тогда было что-то около двадцати пяти — двадцати семи.
Благодаря своему положению, связям и отличному образованию я уже тогда находился в чине штурмбаннфюрера и имел солидную должность.
Я запросто мог быть функционером СС в столице, тем более наша семья лично знала Гиммлера, но я желал подвигов, и поэтому рвался на фронт.
Кому-то мое желание воевать, наверное, казалось блажью. Но мне было плевать, и я добился своего.
Я попал служить в Третью танковую дивизию СС «Мертвая голова».
К слову сказать, польскую кампанию я закончил с железным крестом, а французскую — с рыцарским.
Осмелюсь заметить, ни те, ни другие не оказывали нам сколько-нибудь серьезного сопротивления. Да если бы и хотели, не смогли бы. Армия Третьего Рейха была тогда словно отличная боевая машина; мы действовали, как единый отлаженный механизм.
Другое дело — восточный фронт. Русские!
Хотя у них тоже промахов хватало и в снабжении, и в логистике, но дрались они отчаянно, как львы!.. Нам бы таких солдат, и тогда бы весь мир принадлежал нам!
К тому же немецкая армия была не готова к русской зиме с ее ужасными морозами. Все это мы не учли, но поверьте, мы тоже кое-что смыслили в военной науке. За очень короткое время мы прошли пол-России и взяли в плен миллионы русских солдат!
Клаус ненадолго замолчал, видимо, вспоминая свою личную войну.
Личные воспоминания есть у каждого, кто воевал. Они вспоминают войну не полной картиной, не масштабно, а лично себя на этой войне. Свои эмоции, переживания и, самое главное, поступки. Многим приходилось потом сомневаться, если бы была возможность в какой-то момент не убивать человека — врага, убил бы?!.
Вскоре он продолжил:
— Моя война закончилась в сорок четвертом, на Украине. Есть там одно местечко под названием Шпола. Многие мои боевые товарищи нашли там свое последнее пристанище.
Если память мне не изменяет, у вас эта операция называлась — Корсунь-Шевченковская.
Господи, профессор, как вы произносите такие труднопроизносимые названия!.. Хотя… это лишний раз подтверждает, что у вас очень богатый язык.
Так вот. Я командовал там танковым батальоном. Мы попали в окружение и были разбиты.
Я получил тяжелое ранение и потерял сознание.
Очнулся в госпитале для военнопленных.
И вот тут началась моя вторая жизнь. К сожалению, очень короткая.
За нами присматривала медсестра.
Молоденькая. Черноокая и чернобровая.
Ее звали Софья.
Она не разговаривала с нами, молча приходила, делала свою работу и, так же молча, уходила.
Наверное, им не разрешали с нами общаться… Говорили, что за ними следили комиссары, чтоб никаких там связей и никакого общения с врагом. К тому же, откуда ей было знать немецкий?!
Однажды так случилось, что я остался в палате один; кто-то был на перевязке, кто-то ушел в сортир или курить.
Я сидел на койке, спиной к палате, смотрел в окно и напевал одну из опер Вагнера. Я пытался воскресить в памяти каждый звук, каждую ноту и даже дирижировал руками. В общем, так увлекся, что не заметил, как вошла Соня.
Мне не известно, сколько времени она уже находилась за моей спиной и слушала мое дурацкое выступление. Я только услышал вдруг женский голос: «Кольцо Нибелунга?»
Обернулся — Соня стоит!
— Если я не ошибаюсь, это часть называется «Гибель Богов», — сказала она на неплохом немецком.
Я был так ошарашен, что просто сидел с открытым ртом и смотрел на нее!
Эта девчонка, может быть, русская, а может, украинка, весьма недурно разбиралась в классической музыке!
Я на своих танках проутюжил треть России, повидал людей и в городах, и селах. Уж простите меня, профессор, те, что встречались мне, не были похожи на знатоков классической музыки!.. Да и откуда им взяться-то было?!. Их же всех, кто не успел сбежать, в семнадцатом зачистили!
А тут такое сокровище!
С этого дня началась наша с ней дружба.
Конечно, встречаться было очень сложно. Как я и говорил, опасались слежки. Свои же могли донести!
Поэтому, удавалось уединиться не так часто, как хотелось бы…
Больше возможностей было, когда Соня дежурила в ночь. Тогда мы могли более или менее свободно видеться и говорить… говорить…
Она стала меняться дежурствами с другими медсестрами, объясняя это тем, что днем ей нужно ухаживать за больным отцом.
Мы обсуждали с ней все: музыку, поэзию, живопись.
Она много читала и много знала.
Я нуждался именно в такой девушке!
Кроткая, часто задумчивая и очень красивая. Рядом с ней мне казалось, что это она благородных кровей, а не я.
В общем, я не заметил, как влюбился!
Я — солдат, убивший немало людей, а теперь — военнопленный, у которого, возможно, и будущего-то нет, и влюбился, как последний мальчишка!
Я признался ей в своей любви, зная, что это напрасно.
Но она ответила взаимностью!
Ура! О Боги! Пусть меня расстреляют завтра, но сегодня позвольте мне подержать ее руки в своих руках! Позвольте подышать запахом ее волос! Дайте поцеловать ее глаза!..
Вам знакома настоящая любовь, профессор?.. Когда вами полностью овладевает это чувство, вы преображаетесь. Вы становитесь другим человеком. Вмиг меняются жизненные ценности, приоритеты. Война, которой я занимался все это время, вдруг стала мне противным и грязным занятием; время, потраченное на победы над мнимым врагом, — бесполезным, а мои арийские убеждения — глупыми!
Если бы все любили по-настоящему, не было бы войн, коммунистов, нацистов… Только любовь…
К великому сожалению, время, отпущенное нам Небесами, пролетело как один миг!..
Я выздоровел и ждал этапа в лагерь для военнопленных.
Скоро мы должны были расстаться.
Я строил планы, один нелепее другого: написать Сталину или вместе сбежать… только вот куда…
Но человек предполагает, а Бог располагает.
Забрали меня из лазарета неожиданно.
Подняли ночью с кровати и отправили в лагерь. Это было так внезапно, что я даже не успел попрощаться с товарищами, не говоря уж про Соню!
Как бывшему члену СС мне присудили двадцать пять лет лагерей, но то ли страну восстанавливать было некому, то ли по счастливому стечению обстоятельств, меня и таких как я отправили в Киев, где до пятьдесят четвертого года я работал на стройках.
Стоит ли говорить, что о Соне я ничего не знал и не слышал.
Меня интернировали на родину.
Сначала в ГДР, а оттуда мне удалось вернуться в Дортмунд, где я родился, вырос и где не был целую вечность.
Жизнь налаживалась. Слава Богу, моя семья выжила. Я женился.
Но знаете, профессор, я никогда не забывал Соню.
Мне даже посчастливилось побывать в Киеве в семьдесят шестом на одном симпозиуме. Оттуда я поехал в Шполу искать Соню, благо, это не очень далеко, чуть больше двухсот километров.
Там мне удалось узнать, что мою Соню арестовали за связь с фашистом… Все-таки кто-то донес!..
После этих слов на глазах Клауса появились слезы. Ему стало тяжело говорить. Юрген гладил его по плечу.
— Куда ее увезли — неизвестно… Но сказали, что она была беременна от этого немца. Вы понимаете, профессор?!. Она была беременна от меня!..
Он уже плакал..
— Может, где-то в России у меня есть сын… или дочь… От моей Сони… Наш ребенок…
Борис Львович за это время не произнес ни слова и ни разу не взглянул в глаза Клаусу. Ведь эта была не его боль… А Клауса…
…Когда Клаус совершенно успокоился, Борис Львович решился спросить:
— Скажите, Клаус, зачем вы все это мне рассказываете?
Старый немец грустно посмотрел на профессора:
— Моя Соня — еврейка. Соня Бляхер. Вы понимаете?!. Моя возлюбленная — дочь вашего народа!
Через нее и через нашу с ней любовь нужно простить друг друга…
Простите меня, профессор…
«Здравствуйте уважаемый Клаус. Ваша история чрезвычайно меня взволновала. Я долго думал и решил попытаться отыскать след Софьи Бляхер, если, конечно, она до сих пор жива.
С уважением, Борис Пастернак».
«Здравствуйте, уважаемый Борис. Получил Ваше письмо. Как прочитал его, так и расплакался. Что ж… Совсем сентиментальным стал… Возраст…
Что касается поисков Сони, буду обязан Вам своей жизнью, хотя… сколько ее там осталось…
С уважением, Клаус фон Шуберт».
«Здравствуйте, дорогой Клаус! Для Вас есть хорошие новости. Милостью Божией Софья Котляр жива и в настоящее время проживает в Израиле. Кстати, поздравляю Вас с сыном!
С уважением, Борис Пастернак».
Если вам нравится наша работа — поддержите нас:
Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)
ЮMoney: 410013762179717
Или с помощью этой формы, вписав любую сумму: