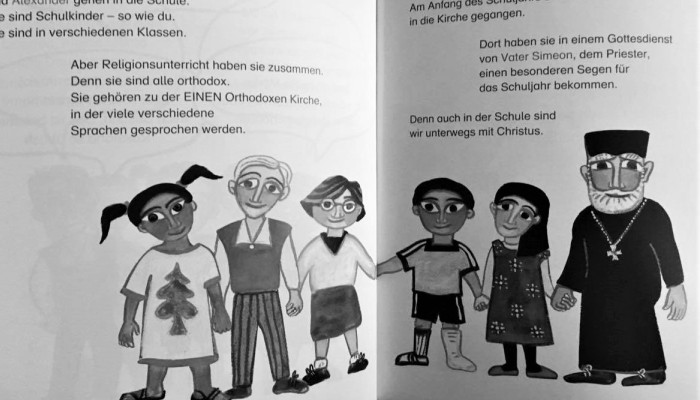«И тот, кто сегодня не с нами, тот против нас!»
17 июля 2023 Тамара Петкевич
Из мемуаров актрисы Тамары Петкевич (1920-2017) «Жизнь — сапожок непарный»:
…На диспутах «О любви и дружбе» отстаивала веру в великую любовь и великую дружбу. Вопрос: «А что, если друг или любимый человек изменит, предаст?» — воспринимался как подножка. Я даже не искала на них ответа, поскольку такие «закавыки» могли расшатать мои романтические представления о жизни. Мы и не подозревали, насколько близко время, когда придется отвечать на эти вопросы по самому глубинному существу и в действии.
1 декабря 1934 года — день убийства С.М. Кирова — застало отца дома. Ни с кем не разговаривая, уронив голову на руки, папа сидел за столом. Меня послали за газетой.
Падал сухой снежок. Возле газетного киоска на углу Первой линии и Среднего проспекта в ожидании «Вечерки» на определенной дистанции друг от друга, вытянувшись в длинную очередь, стояли умолкшие люди.
Вернувшись домой, я застала папу в прежней позе.
Растерянность отца, очевидная глубина его переживаний придавали событию зловещий смысл.
Газета ничего не прояснила: кто убил и почему? Возникшее позже неизвестно из какого «около» имя убийцы — Николаев — тоже мало что говорило.
Ранним декабрьским утром, когда еще не рассвело и горел электрический свет, нас в школе построили и повели прощаться с Кировым. Мы вступили в бесконечный скорбный людской поток, молча прошли мимо гроба. Неяркое освещение, шарканье ног, траурная музыка и — то ли мне приснилось позже, то ли пригрезилось там, наверху, на галерее, появившееся на мгновение и исчезнувшее лицо Сталина — такими я запомнила те дни.
На мои четырнадцать лет это пришлось первым реально задевшим сознание политическим убийством.
При вступлении в пионеры, произнося текст торжественного обещания: «Обязуюсь бороться за дело рабочего класса», я ощущала просто-таки ужасный испуг и стыд. Теперь, после убийства Кирова, на вопрос отца: «Ты готова вступить в комсомол?» — я пылко и чистосердечно ответила: «Да!» Готовность совершать полезное и угодное Родине была живой и высокой.
В Василеостровском райкоме комсомола я без запинки ответила на вопросы о международном положении, назвала фамилии наркомов, и мне торжественно вручили комсомольский билет.
В 1936 году во все средние школы присылались так называемые «комсорги ЦК». Это были люди с высшим образованием и специальной подготовкой. Мы мгновенно и весело сгруппировались вокруг умного, интересного Давида Самуиловича Хейфица, назначенного в нашу школу. Выпускали стенгазеты. Клеили, рисовали, переписывали, вывешивали. Вместе совершали экскурсии по музеям, прогулки по городу, останавливаясь у памятников, у мемориальных досок. Часто ходили в театр. Форма культпохода ничуть не мешала театральным потрясениям. Я не замечала никого ни вокруг, ни рядом. После «Маскарада» Лермонтова навсегда «заболела» театром. Александрийский театр стал любимым. Оперные спектакли Мариинского театра, такие, как «Русалка», «Мазепа», также поражали воображение.
С приходом в школу комсорга моя общественная деятельность стала особенно активной. Как делегата меня стали посылать на районные и городские конференции. Перед ноябрьскими праздниками 1936 года сказали, что в Смольном на мое имя выписан специальный пропуск: я удостоена чести в день парада стоять на трибуне. Взволнована этим была не только я, но’ и родители. Увиденный 7 ноября с трибуны парад и демонстрация закрепились в сознании как зримый образ мощи, согласного и радостного единства людей, окружавшей меня действительности.
Пыл юности, заносчивый подъем помыслов, вера в завтрашнее торжество всеобщей справедливости, о которой так часто говорил Чтец, стали не только «дымом» возраста, но и насущным духовным хлебом из-за испанских событий. Как живой язык пламени, испанская война прожгла географическую карту, приковала к себе сердца и мысли. Имя Долорес Ибаррури, провозглашенная ею формула: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» — импонировала необычайно. Я верила в то, что «но пассаран!» — преграда любой несправедливости, и следила за событиями в неистовом ожидании победы. В Испанию уезжали мужчины-идеалы, мужчины-герои. Я была влюблена в этих героев. Восхищение добровольно уезжавшими на войну принимала за личную причастность к событиям.
Ленинградские семьи охотно разбирали смуглых мальчишек и девчонок, прибывавших из Испании. И это также было прекрасно, человечно и празднично. Да, все мы, живущие на земном шаре, — одна семья; победа Народного фронта не за горами.
Посещение Дома политкаторжан, куда меня отец брал с собой, идеи интернационального единства, привитые им, убеждение, что в жизни не должно быть места неправде, как нельзя лучше дополняли одно другое.
Меня волновала мысль, что, оказывается, и сегодня, сейчас — а не только в легендарные времена Жанны д’Арк — можно совершать великие подвиги, геройски сражаться и погибать за идеалы свободы и братства. Испания сблизила мечту и реальность. Это было самое потрясающее чувство, испытанное мною в те годы.
Патетическое ожидание победы, однако, постепенно теряло упругость. О событиях стали говорить глуше, путанее и туманнее, а потом вдруг вообще как-то все распалось. В душе осталось что-то похожее на невынутую занозу, которая пребывала там много-много лет.
Тем не менее война в далекой Испании заставила меня с гораздо более осознанным интересом вникать во все, что происходило и в моей стране.
Радио и газеты были непререкаемым авторитетом. Вера в газету равнялась безоговорочной вере в Правду и Справедливость, а ими и только ими вымерялась жизнь. Дело промпартии, скажем, представлялось поучительным романом или повестью. Рамзин, Хрусталев и другие, верила я, действительно виновны. Их наказали, разъяснили ошибки, они сожалеют о своих заблуждениях и теперь делом доказывают, что впредь готовы служить народу. Примерно так же поверхностно судила и об оппозиции: «левая» ли «правая» — было несущественно.
Впрочем, на безоблачное восприятие общественной жизни иногда наползал мглистый туман.
Один незначительный случай тех дней не пожелал уйти из памяти. Я из-за болезни не пошла на первомайскую демонстрацию. Рвалась. Переживала. Мама уступила в малом — разрешила постоять возле ворот дома. Мимо проезжали празднично разукрашенные грузовики с разного рода макетами, знаменами, портретами вождей. С оркестром и песнями шагали демонстранты. С аэропланов сбрасывались листовки. Я подхватила одну из них: «И тот, кто сегодня не с нами, — было написано там, — тот против нас!» Поэтическо-политическая строка как-то впрямую относилась к тому, что я не в рядах шагающих в колоннах. Слова резанули огульной недобротой. Не вникая в причины, меня кто-то уличал, даже обвинял.
Праздничный настрой померк. Я в ту пору яростно противилась попыткам вправлять свободную душу в «рамки».
Не много у меня было доверительных бесед с отцом. Но одну из них я хорошо запомнила.
Каждый комсомолец шефствовал над пионеротрядом. После проведения сбора, подражая любимому учителю литературы, я читала своим пионерам тоже «Муму», страстно мечтая вызвать у подопечных такие же слезы, какими плакала сама… Это удавалось. Я с охотой бегала на эти сборы. Но однажды, придя в назначенный час, увидела на своем месте другую пионервожатую, девочку из параллельного класса.
— Теперь я вожатая этого отряда, — без смущения сказала она.
Круто повернувшись, я ушла. Дома неутешно рыдала. «Кто ее назначил вместо меня? Отчего со мной никто не поговорил? Почему меня не предупредили?» Я поделилась с отцом. Но вместо того, чтобы разделить со мной обиду, папа стал отчитывать меня:
— Кто дал тебе право неизвестно на кого бросить отряд и уйти? Ты разве знаешь эту девицу? А может, она — враг? Ты обязана была выяснить, в чем дело. Должна была бороться!
Не ведая, как следует себя вести в подобных ситуациях, я, вероятно, чувствовала какую-то правоту отца, но понятие «враг» и формулу «бороться» выносила за скобки. Это было не по мне. По моему разумению, бороться можно было за победу в Испании. Но в своей школе, отряде, среди учеников?..
Глагол «бороться» я отталкивала еще и потому, что он прямолинейно связывался с тем, что, продолжая меня наказывать, отец «боролся» со мной.
Я уже привыкла жить с бабушкой, в известной степени отдалилась от родителей. Свою добрую и ласковую бабушку очень любила, хотя и мучила капризами: не сделаешь по-моему — не буду обедать; не позволишь пойти гулять — не сяду за ужин; не так сказала — вообще не притронусь к еде. Когда родители присылали нам провизию — творог, сметану, масло, — не задумываясь над тем, как это им достается, собирала своих подружек, и они в один присест уминали все, что бабушка рассчитывала растянуть недели на две. История с гусями странным образом отложилась во мне. Я считала, что девочки вообще всегда голодны. Бабушка чуть ли не плакала, а отец, приезжая в город, опять учил ремнем. Поделом, конечно, но я становилась старше. Мучительное чувство стыда и унижения переносила трудно. С течением времени, правда, «кожаные» изделия сменил другой род наказания.