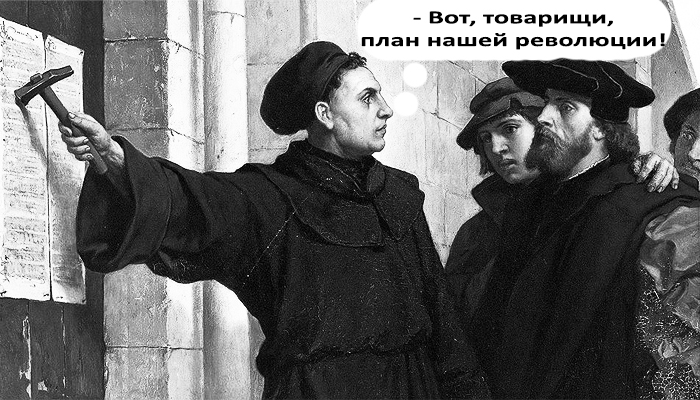Тогда было ясно, что либо армия остановится и остановит немцев, либо войне конец и советской власти конец
9 января 2024 Игорь Дьяконов
Игорь Дьяконов (1915-1999) — доктор исторических наук, востоковед, лингвист. Работал в Эрмитаже с 1937 г. Во время войны был переводчиком в отделе пропаганды Карельского фронта, где писал и печатал листовки, участвовал в допросах пленных. В 1944 году участвовал в наступлении советских войск в Норвегии и был назначен заместителем коменданта города Киркенес. Впоследствии — почетный житель этого города.
Предлагаем вашему вниманию отрывок из книги Дьяконова «Книга воспоминаний» (первая публикация — 1995 г.).
…Жизнь в музее замерла, приказа о продолжении эвакуации не было. В первую очередь были вывезены все экспозиции, надо было браться за фонды в запасах.
В залах остались только большие статуи и каменные вазы, которые нельзя было сдвинуть с места.
Занимались в Эрмитажных дворах шагистикой, противогазами, разборкой винтовки. Проходили учения, как действовать при воздушной тревоге. Нас зачислили в пожарную охрану, особенно интересно было дежурить ночью на крыше.
Мы изучили многие ходы в Эрмитаже и Зимнем. Это оказалось необыкновенно интересное здание. Позднее в огромных сухих подвалах не только спасались от бомбежки, но и жили сотни людей. Зимний в этом смысле был самым надежным зданием в городе, и впоследствии сотрудники не только Эрмитажа, но и многих других учреждений города предпочитали прятаться и жить именно здесь.
В здании обнаружилось множество тайников. Тогдашний начальник охраны предлагал на случай захвата города немцами оставить его в Эрмитаже, где он сможет продержаться хоть три года, если его обеспечат продовольствием, и будет передавать командованию нужные сведения. Но ему этого не разрешили.
Выяснилось, что над Большими просветами под железом крыши был положен войлок, пропитанный дегтем, очень опасное сочетание в случае попадания зажигалок.
В будочках на крыше не всегда было приятно — комары донимали. Ночью было необыкновенно тихо, все, сравнительно немногочисленные тогда автомобили были с самого начала войны реквизированы в армию; но изредка было слышно, как какой-то армейский автомобиль въезжает на самый верх Дворцового моста: «та-так, та-так» по незакрепленным чугунным доскам, прикрывающим щель разводной части. Мы научились легко ходить по крышам, и там я впервые увидел вблизи Латника в Черных доспехах, который, по Блоку, «Не даст ответа, пока не застигнет его заря». Необычайны были закаты и восходы, и они становились все краснее по мере того, как приближался фронт. Вскоре мы поняли, что это горят леса.
Мы ходили в касках, но в своей одежде. Тотя Изергина (впоследствии жена И.А. Орбели, а тогда один из его нелюбимейших «черных котов») все уговаривала нас обучиться у нее альпинистским приемам, чтобы во время тревоги можно было скорее забраться на крышу, минуя длиннейшие ходы и лестницы.
Питание в городе заметно ухудшилось, но в Доме ученых, куда мы являлись в пожарных касках, кормили более чем сносно, было даже бламанже. Подавали официанты-татары, как в царское время. Карточек пока не было.
Затем стали происходить воздушные тревоги. Тревоги эти были ложными, но тем не менее сеяли панику. В учениях по шагистике вместе с нами маршировали «старушки» из музейной охраны, и при звуке сирены то одна, то другая вдруг начинали метаться с криком, что ее убьют, а у нее дома дети, пыталась куда-то спрятаться.
Подошла подготовка эвакуации второго эшелона. Работа шла споро, но уже не с таким необычайным напряжением.
В эти дни приезжал из армии мой самый близкий друг Ваня Фурсенко. Он был лейтенантом, командовал взводом. Ваня рассказал нам то, что впоследствии мы слышали от многих. Он приехал из Новгорода с поручением о пополнении боезапаса или что-то в этом роде, и говорил нам, что Новгород почти окружен; город еще держится, но кругом армия бежит.
Дело шло раз за разом таким образом: части занимают окопы; являются немцы с автоматами — трр-р-р веером; одновременно разносится слух о парашютистах в тылу — и начинается бегство. В нормально организованном армейском тылу парашютисты не страшны, но в сочетании с автоматчиками с фронта они вызывали ужас. Разбегаясь, наши красноармейцы приходили поодиночке в город, и каждый сообщал, что из дивизии уцелел он один. На деле, побросав оружие или с оружием, постепенно являлось до 80 % бойцов. Наши танки ехали по дорогам, заваленным шинелями, противогазами и даже винтовками, которые солдаты бросали, чтобы облегчить себе бегство.
Рассказав все это, Ваня уехал в свою часть, и больше его никто никогда не видел. Лишь годы спустя стало известно, какие потери несли в наступлении и немцы, и как расписание наступления все менее выполнялось. А тогда было ясно, что либо армия остановится и остановит немцев, либо войне конец и советской власти конец.
Всюду обсуждали, как быть дальше. Уже давно происходила мобилизация всех женщин, кроме имеющих совсем малолетних детей, на рытье окопов. Прибегавшие женщины сообщали, что едва они успеют вырыть окопы, как их сразу же занимают немцы. Дело их тогда казалось нам бессмысленным.
Бесперебойно действовало «агентство ПОЖ» («прибежала одна женщина»). Говорили о взятии Нарвы, Луги, Толмачева, Сиверской.
Когда стало известно, что взята Сиверская, я решил, что пора отправлять семью в эвакуацию. На этом давно настаивал мой тесть Яков Миронович; война застала его в Саратове, где он возглавлял университетскую экзаменационную комиссию; он сразу телеграфировал, что устроит всем вызовы туда, но вся семья отказалась, и Яков Миронович вернулся в Ленинград. Но теперь эвакуироваться решила и теща, что было гораздо важнее.
Эвакуация населения в это время проходила хотя и в срочном порядке, но довольно организованно. Был городской штаб эвакуации, районные, и местные штабы во всех учреждениях, на фабриках и заводах. Идея заключалась в том, чтобы эвакуировать из Ленинграда всех, неспособных работать на оборону. Это исключало рабочих и инженеров всех больших и малых заводов, молодых женщин, годных для оборонных работ, и всех, кто мог пригодиться в возможных уличных боях, а включало всех детей и женщин с детьми, неработоспособных мужчин и все учреждения и фабрики, от которых не могло быть никакого прока в прифронтовой зоне. Каждому большому учреждению или группе малых выдавался железнодорожный эшелон.
Такова была теория. На практике всё было сложнее и запутаннее. Нельзя было, чтобы эвакуация сопровождалась паникой, и в городе не должна была замирать жизнь. Сильно сократившийся, из-за ухода большинства студентов и молодых преподавателей в ополчение, состав Университета не подлежал эвакуации, и было объявлено, что 1 сентября в нем начнутся лекции. В театрах оставлялись труппы актеров, которые должны были удовлетворять культурным потребностям жителей города и его защитников; спектакли продолжались или возобновились; в июне — начале июля гастролировал Камерный театр Таирова, Алиса Коонен играла в «Адриенне Лекуврер». Непрекращающаяся жизнь города объяснялась еще тем, что едва ли не больше половины подлежащих эвакуации вообще не хотели уезжать. В результате в уже организованных эшелонах были недоборы, и в то же время был большой наплыв желающих эвакуироваться, для которых эшелонов не было — либо еще не было, либо и не предполагалось. Чтобы попасть в эшелон, надо было хлопотать. Я хлопотами заниматься не мог, находясь на казарменном положении, — и многие, по той же причине, так и не смогли эвакуировать семьи.
Детей эвакуировали все время и с самого начала — теперь уже не навстречу фронту, а в Ярославскую, Пермскую области и постепенно все дальше на восток. Сын моего брата Миши от первой жены, Андрюша — тогда девяти лет — был эвакуирован с наскоро образованным детским домом писателей в Ярославскую область и там попал под начало (наиболее ненавистного ему человека) новой возлюбленной и будущей новой жены отца, выехавшей туда же со своим сыном на правах воспитательницы. Эрмитажные дети были вывезены тоже в Ярославскую область, возглавляемые замечательным человеком и педагогом Любовью Владимировной Антоновой; добирались они и на поездах, и на подводах, и, кажется, на баржах, и по дороге понесли потери от скоротечной кори, вспыхнувшей в эшелоне.
Но и детей эвакуировали не всех. Одни боялись повторения июльских ужасов детской эвакуации, другие считали, что спокойнее иметь детей при себе. Школы тоже должны были открыться 1 сентября.
Однако главная трудность с эвакуацией заключалась в том, что все меньше становилось железнодорожных путей. Уже были отрезаны Варшавская и Витебская дороги, к середине августа вышла из строя Московская, и единственный путь, который оставался, вел через Мгу, Тихвин и Вологду, но он уже был забит эшелонами. Начали эвакуироваться на баржах. При роспуске штаба Ополченческой армии отпустили из армии некоторых ученых, писателей, и говорили, что видели любимого студентами профессора Г., снявшего полковничьи шпалы и уплывавшего по Неве на верху груженой баржи. Правда ли это, не знаю. Много лишнего говорилось.
Последнее обсуждение — уезжать нашим или нет, происходило, как я упомянул, 14 августа у нас дома. Все согласились, что уезжать надо, кроме Ляли; все усилия родителей уговорить ее были тщетны.
Наши получили место в эшелоне для семей преподавателей и служащих Университета. Куда именно он пойдет, было неясно, и мы с Ниной договорились об условных адресах, по которым мы будем списываться, чтобы найти друг друга. В какой-то момент выяснилось, что эшелон получает назначение в Свердловскую область. Поэтому мои тесть и теща взяли с собой очень приятную нашу коммунальную соседку, Анну Соломоновну, сестра которой была замужем за профессором в Свердловске; там был и еще один якорь — в Свердловск была распределена еще в 1940 г. Нинина подруга Талка Амосова, но начальство эшелона говорило, что на город надеяться трудно, что скорее всего разместят в области.
Шились мешки из синих полосатых чехлов для мебели (у Магазинеров они еще сохранялись), набивались чемоданы — очень-то много было не увезти; но в городе еще почти все можно было купить в магазинах, и моя теща закупила риса, грецких орехов и крабов в консервах — эти тюки, впрочем, по дороге украли. Но все эти хлопоты, на которые ушло три-четыре дня (с 14 или 15-го по 18-е августа) проходили без меня; из Эрмитажа не отпускали, шла работа по отправке второго музейного эшелона.
Поезд с моими уходил 19 августа с Финляндского вокзала. Мы ехали туда на трамвае; мой тесть с тещей, жена с годовалым Мишей, соседка Анна Соломоновна и провожатые: Ляля, я и двое-трое друзей. Товарные вагоны уже стояли у платформы, хмурые отъезжающие уже собирались. Подошли к вагону: солдатская теплушка, нары в два этажа, задвигающаяся дверь. Миша забрался на верхние нары, устроился у единственного окошечка. Было не до чувств: надо было всех получше разместить, найти место для вещей — они образовывали огромную кучу посреди вагона.
Задвинули двери, дали сигнал — в окошечке появилась веселая рожица Миши, который махал нам рукой, и было ему, видно, все это очень интересно. От этой радостной мордашки я почувствовал, что не могу удержаться от слез. Поезд двинулся. Кто будет жив, когда встретимся? Встретимся ли? Миша, Миша, Миша!
Я не пошел с Лялей, не помню уж, почему; наверное, ей надо было возвращаться на свой завод. Вместо этого я пошел к Панаевым; они жили близко, у самого Литейного, напротив Большого дома. Меня встретили и Нина, и мать ее Елена Борисовна, обе только что приехавшие из разных сторон с каких-то работ. Очень странно было, что такая дореволюционная дама, как Елена Борисовна, копала окопы. Известия ее были невеселые: Взята Гатчина, вероятно, взято Царское Село. Когда я шел по Литейному, мне навстречу брели нескончаемые толпы беженцев из области.
Теперь надо было ждать известий от наших: проехали ли Мгу? И в городе, и на вокзале только и шли разговоры о застрявших эшелонах. И хотя их, видимо, пытались пропускать по порядку, получалось так, что некоторые поезда, вышедшие с вокзала еще 15-го, застряли на Фарфоровском посту, в Усть-Ижоре, в Рыбацком; потом, дней через пять, пассажиры возвращались оттуда пешком со всеми вещами на брошенную квартиру. Но я получил вскоре открытку из Тихвина: «Проехали благополучно, во Мге был фейерверк» — читай бомбежка. Следующие известия я получил только месяца через два, и не в Ленинграде. Девять дней в теплушке с разболевшимся мальчиком, без воды, высадка в Свердловске-товарном, теснота, потом сырой и холодный, прогнивший барак, голод, и наконец — место в Юридическом институте, помещавшемся между кладбищем, тюрьмой и больницей; опять голод уже как быт — но очень мало из всего этого до меня доносили письма, и я почти совершенно ничего не знал о тыловом быте — о таких вещах нельзя было писать, ведь на каждом письме стоял штамп военной цензуры.
Весь август я продолжал жить на казарменном положении. Еще в течение июля меня дважды вызывали в военкомат. В первый раз у меня отобрали белый билет и признали ограниченно годным — к нестроевой службе. Во второй раз мне дали назначение переводчиком корпуса. Я так и не дождался вызова туда, не зная о том, что корпуса были тем временем расформированы. А поскольку я ждал вызова, то я и не поехал в эвакуацию, в том числе и со вторым эрмитажным эшелоном, который вышел, помнится, после 20 августа, но еще успел проскочить. Впрочем, я не знал и того, что наши эшелоны идут туда же, куда отправились и мои, — тоже в Свердловск — это было засекречено.
Продолжая работать в Эрмитаже, я теперь участвовал в подготовке третьего эшелона, но уверенности в том, что он сможет выехать, не было.
Для настроений того времени характерен один разговор, который произошел у меня со случайным встречным во время воздушной тревоги. На Марсовом поле, в подворотне Ленэнерго, я пережидал тревогу вместе с молодым отцом, который был с очень славным маленьким мальчиком. Я спросил, почему он не уезжает. Он напомнил, что происходило при июльской эвакуации детей, и сказал, что из Ленинграда он не собирается уезжать, будь что будет. Я потом много раз вспоминал этого молодого отца с ребенком. Они, конечно, погибли.
Фото: упаковка коллекции Эрмитажа перед эвакуацией