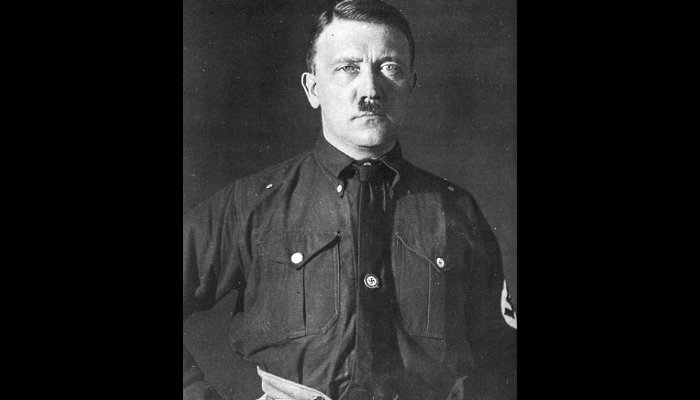Политических направляли в спецбольницу в качестве наказания, а привилегированных уголовников — в качестве поощрения
6 сентября 2024 Юрий Ветохин
Юрий Ветохин (1928-2022) — писатель, общественный деятель, трижды пытавшийся бежать из СССР: в 1963 году (неудачно), в 1967-м — был пойман в Черном море пограничниками, сидел в разных тюрьмах, в итоге был признан в Институте им. Сербского «невменяемым», с 1968 по 1974 гг. содержался в Днепропетровской психиатрической лечебнице, где его здоровье было подорвано медпрепаратами. В 1975 году признал себя письменно психбольным, а также что излечился и не собирается бежать. Был выписан из психбольницы, в 1976 году освобожден от принудительного лечения. В декабре 1979 года спрыгнул с круизного лайнера в 30 км от индонезийских островов, доплыл до одного острова за 20 часов. Получил политическое убежище в США, написал давно задуманную книгу «Склонен к побегу» (первая публикация в 1983 г.). Предлагаем вам отрывки из этой книги.
В рабочей камере безвыездно жил Федосов. Сколько я его помню, он всегда выступал в защиту коммунизма. В 1968 году, во время Пражской Весны, он громко кричал: «Танками их! Танками!», потом вырезал из журналов портреты Ленина и расклеивал их по стенам в коридоре. Однажды он пожаловался Бочковской на Муравьева, с которым поссорился из-за политики. В другой раз, когда я находился в рабочей камере, по радио передали сообщение об угоне отцом и сыном Бразинскасами советского самолета в Турцию. При этом была убита бортпроводница-комсомолка, пытавшаяся выступить в роли надзирательницы «тюрьмы СССР». Федосов страшно разволновался:
— Их все равно заберут из Турции! Их все равно расстреляют! — кричал он на всю камеру.
— Что ты каркаешь, Федосов! — возмутился я. — Ты в слове «корова» три ошибки делаешь, а туда же лезешь — в политику! Научись грамоте сначала!
— Когда я три ошибки в слове «корова» сделал? — обиделся Федосов.
Если Федосов был «любителем-шпионом», то живущий в той же камере Виктор Ткаченко являлся профессиональным чекистом. Однажды, напившись до потери сознания, Ткаченко совершил убийство из казенного оружия. Понятно, что такого «ценного для дела коммунизма» человека не отдали под суд, а признали «невменяемым в момент совершения преступления» и направили в спецбольницу. В спецбольнице Ткаченко внезапно «выздоровел», и якобы по этой причине ему не прописывали никаких тяжелых лекарств. Его сразу поселили в рабочую камеру и позволили работать в качестве инсулинового санитара. Ткаченко чувствовал свое превосходство над остальными и всегда вмешивался в разговоры больных, если они хоть сколько-нибудь имели критический оттенок. Однажды я рассказал о том, как меня пытали серой. Услышав мой рассказ, Ткаченко заявил с апломбом:
— Все это, наверно, было до революции!
Таких Ткаченок в спецбольнице было несколько десятков человек, и все они принадлежали к так называемому «активу».
Если на свободе коммунистам в их работе помогают так называемые «беспартийные большевики», то в спецбольнице эту помощь осуществляли здоровые «больные-уголовники», нашедшие там убежище от расстрела за совершенные ими преступления.
Разница между здоровыми пациентами-уголовниками и здоровыми политическими пациентами была та, что уголовников направляли в спецбольницу с целью спасти их «драгоценные» жизни, когда преступление грозило им смертной казнью, а политических направляли в спецбольницу тогда, когда нормальное судопроизводство не могло обеспечить им расстрел или длительный срок заключения. Иными словами, политических направляли в спецбольницу в качестве наказания, а привилегированных уголовников — в качестве поощрения.
Если большинство политических, за исключением нескольких человек, кому КГБ велело применять «щадящее лечение», испытывало на себе всевозможные виды лекарств и всегда находилось в спецбольнице дольше максимального срока наказания по инкриминируемой им статье уголовного кодекса, то уголовники, наоборот, лекарств получали мало и выписывались очень быстро.
Вторым представителем таких «поощренных Партией и Правительством уголовников» в нашем отделении был Шушпанов, который тоже жил в рабочей камере. На свободе Шушпанов работал парторгом какого-то завода и, как все парторги, был пьяницей. Однажды его очередной запой перешел в белую горячку. Шушпанов взял охотничье ружье, патронташ с патронами, сел у окна и стал стрелять по всем, кто проходил или проезжал мимо его дома. Он убил или ранил около десяти человек, прежде чем милиционерам удалось его обезоружить.
Шушпанова лекарствами тоже не травили. Ему не прописывали никаких уколов: ни серы, ни инсулина, ни аминазина. А когда Шушпанов получал таблетки, сестры не заглядывали ему в рот. Несколько месяцев Шушпанов днями и ночами спал, приходя в себя от многолетнего пьянства. Наконец, когда он немного очухался, Бочковская назначила его раздатчиком табака, а потом — библиотекарем. Лет через пять его выписали.
В соседнем 10-м отделении находился такой же привилегированный уголовник с отвратительным преступлением. Будучи крупным партийно-комсомольским активистом и руководителем дружинников (т. е. добровольных милиционеров), он долгое время занимался тем, что насиловал девушек, а потом убивал их. Один раз он уронил около очередного трупа девушки газету, на которой был указан его адрес. Так следователи напали на его след. Врачами 10-го отделения он был поставлен в привилегированное положение. Он был уравнен в правах с санитарами и делал все, что делали санитары: дежурил около камер с ключом в руках, требовал с больных консервы за разрешение сходить в туалет, водил больных строем на плетение сеток, в тюремный двор, бил больных и доносил врачам обо всем, что видел и слышал в камере. Такие же Шушпановы и Ткаченки были во всех других отделениях. Если вы когда-нибудь повстречаете одного из них на свободе и спросите про спецбольницу, то он обрисует ее в самых радужных красках.
— А то, о чем рассказывает Ветохин, — заметит он, — то было до революции!
Говорить с такими людьми о политике я считал бессмысленным занятием и высказывал свое мнение только когда не мог сдержать себя.