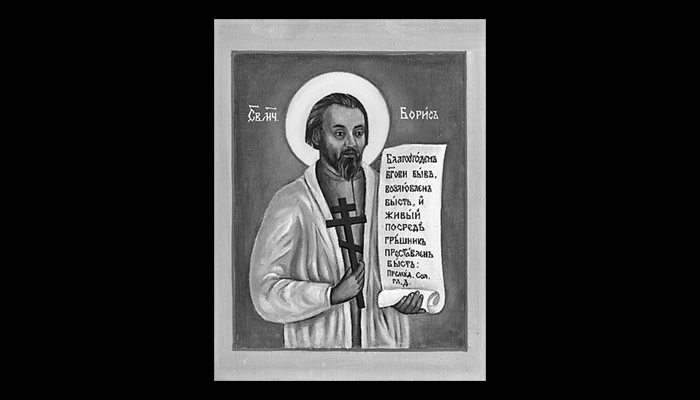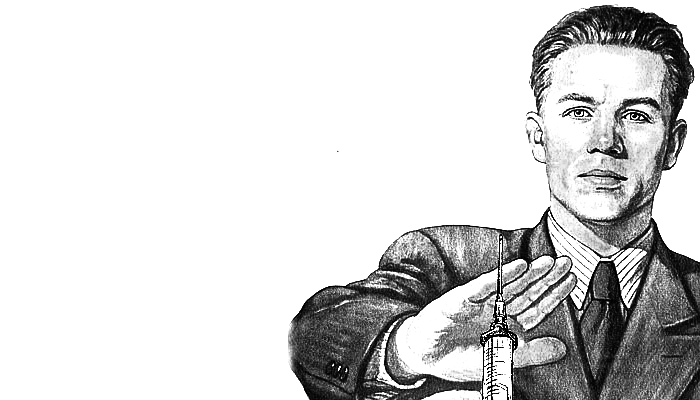Становится все более и более невозможным жить нараспашку и доверчиво
25 сентября 2024 Михаил Пришвин
Из дневников Михаила Пришвина за 1931 г.
8 января
Был возле Вифании, где теперь поместился «Птичий трест», вздумал снять храм с большими синими куполами, пять куполов, и на каждом вместо креста обрывки флагов. Когда я снимал купола, старая женщина с больными глазами. «На память снимаете, — сказала она. И вздохнула: — Тяжело!» Я спросил: «А что теперь внутри этого храма?» Женщина изумилась: «Да разве вы не знаете?» — «Нет!» — сказал я. Она подошла ко мне вплотную, наклонилась к уху и прошептала: «Куры!»
17 Января
Иду вечером, слышу, какая-то старушка стонет. Кому нужна она? Ведь в ее-то положении возможна только от родных помощь. Если же социализм, то «родство» это должно распространяться на всех. (И так у наших дореволюционных социалистов и было: разрывалось кровное родство и на место его вступало человечество.) Теперь «человечество» и «родство» взято в принцип, и раз так, то, конечно же, моей старушке надо идти не к родственникам, а к «начальству». Так вот и обездушивается вся страна как бы принципиально. Возможно, такое страшное (и, кажется, ненужное) разрушение имеет значение «сжигания кораблей». А впрочем, разве можно что-нибудь понять в этом стремительном падении «жизни» и материализации «принципа» (вернее, «военизации»).
Становится все более и более невозможным жить нараспашку и доверчиво. Необходимо заботливо-хозяйственное отношение к личине своей, с одной стороны, и с другой, самое главное, установление своей линии (какою бы ни было ценой, даже в последний момент ценой личины, т. е., «жизни»).
18 января
«Поневоле соглашаешься» — есть такое выражение, когда хотят сказать, что какие-то события выросли как бы вне нас, предстали нам как факты и заставили с ними согласиться. Так вот, сопротивляясь насилию революции, «поневоле соглашаешься» и «приходишь к убеждению» во многом такому, чему непременно бы сопротивлялся вначале.
Сегодня на рассвете я молился о продлении людям радости на земле (посредством приобщения их к творчеству жизни).
Наша революция родилась в недрах великой мировой войны, загоревшейся в сердце Европы, и является как бы мостом к новой войне, которая даст наконец смысл той великой войне. Правда, как-то после краха всей христианской культуры стало бессмысленно жить. И вот эта необходимость продолжать ту войну и привести жизнь современную к относительной ясности и прочности является единственным смыслом нашего мрачного жестокого существования. И вот, что если и в этом тоже мы действуем лишь «под предлогом» (сознательно или бессознательно), а на самом деле весь спор лишь в том, чтобы тем или иным путем (как Америка, или как колония) 1/6 часть земного шара <1 нрзб.>, как агент к современной цивилизации. Что, если под предлогом…
19 января
Как было у Ефр. Павл. Больше всего хотелось бы ей, конечно, чтобы Лева в церкви обвенчался, но он не стал по-церковному. В таком случае записался бы… Но он и записываться не стал. И Е. П., не отвергая даже такой брак без записи, она сказала: «Конечно, не в этом дело, если не наладится в главном, то ни церковь, ни запись не удержат». Итак, Е. П., и, конечно, все неглупые люди, устраняют и отношения церкви и гражданские отношения, имея перед собой факт основной, «самое главное». Не будь личных обстоятельств и революции, то, возможно, они бы могли «самое главное» заменить церковным и т. п.
Что же это такое «самое главное»?
Конечно, лад (любовь).
Итак, в революции лад как «естественное состояние» выдвигается на первый план, и во имя этого лада отбрасываются все легенды.
Но… лад — это счастье, а счастье случайно. Между тем на одного счастливого (даровитого, нравственного и т. п.) приходится 99 бездарных, которые устраиваются собственно не по ладу, а по примеру счастливых ладных. Этот пример среди бездарных начинает мало-помалу быть как правило, и так устанавливается быт, в котором уж не видно лица подавшего пример и самый пример стал легендой. До поры до времени быт держится, начинаются «устои», а потом все летит, потому что легенда сильно расходится с «жизнью».
Итак, революция есть действие жизни, и первое строительство после революции происходит на основе естественного лада, который мало-помалу превращается в быт.
Этот «лад» распространяется не только на семейные отношения, но и на групповые…
21 Января
«Крестьянский писатель» Каманин рассказывал о тех чудовищных антихудожественных требованиях, которые применяются к крестьянским писателям, — что, напр., «аксаковщина» (вероятно, понимаемая как созерцание природы) является преступлением. С другой стороны, легко и дурачить «начальство», против аксаковщины, напр., довольно было сказать, что ведь Аксаков убивал дупелей и ел их, значит, не был только созерцателем. Вся эта эстетическая принудиловка верней всего происходит по традиции от Чернышевского и друг. революционеров-марксистов вплоть до Ленина. Что-то вроде Спарты.
Все больше и больше начинаю не любить либералов, выдавших нам облигации займа «Свободы». Мой путь теперь возле забора, который устроил я шесть лет тому назад, чтобы мои собаки не мешали соседу моему, живодеру, резать и драть лошадей.
2 Марта
Вчера в «Известиях» Толстой написал, что у нас нет принудительного труда. На самом деле принуждение есть и теперь оно приблизительно, как было с колоколами: официально нет, а на местах практикуется. Толстому будет неловко, когда появится новая статья о головокружении и перегибах. Единственная позиция возможная — это признать, что в такой острый момент жизни государственное принуждение к труду необходимо так же, как во время войны.
6 Марта
Ах, Толстой Алеша! зачем он написал америк. рабочим, что у нас нет принудит. труда. Надо бы написать, что есть такой и да будет он, раз мы строим государство.
…Можно до того приспособиться к работе в потемках, что чувство недостатка в свете исчезает и, даже напротив, такое может статься, что во тьме достигнутый навык при свете теряется и отличный мастер на свету делает негодные вещи. Так было в Сергиеве в 1923-м году с одним токарем, которого за примерное поведение, трезвость, честность, сердечность и большой практический ум выбрали народным судьей… Куда тут допотопные рассказы о находчивости царя Соломона. Если бы походить по городским слободам и записать переходящие из уст в уста рассказы о суде бывшего токаря, да книжку бы изучить, то, наверное, скоро бы забыли царя Соломона и, по крайней мере у нас в СССР, в соответствующих Соломону случаях, помнили бы Данилу Кондратьевича Поташенкова.
Так прошло семь лет, равных по ходу событий и человеческих переживаний семидесяти обыкновенных лет. Поташенков за это время до того утвердился в своем призвании народного судьи, что отдал даже какому-то токарю-пьянице свой токарный станок со всеми инструментами, и тот все это вскоре пропил.
Случилось, однажды приехал к нам в С. какой-то большой прокурор, чуть ли не сам Крыленко, и пошел из любопытства в народный суд. Конечно, сразу же Крыленко понял, что в лице народного судьи Поташенкова имеет дело с гениальным самородком. Как раз в это время устраивались в Москве краткосрочные юридические курсы. Крыленко, видя гениального человека, работающего в полных юридических потемках, как и все мы на его месте, предложил народному судье поехать на шестимесячные курсы и подучиться. С большой радостью Поташенков согласился, поехал в Москву и через шесть месяцев вернулся на свое место.
С первых же выступлений выученного Поташенкова все товарищи заметили на суде ошибки, а дальше все больше и больше. Конечно, ошибки и раньше бывали изредка, но тогда малейший намек на ошибку Дан. Кондратьевич сознавал и все исправлял. Теперь же не подступись!
Не прошло и года, как Поташенкову пришлось уйти из суда. Теперь в Сергиеве днем и ночью вы можете слышать оратора, который <нрзб.> ругает все до основания: науку, государство и в особенности почему-то кооперацию. На площади во время учения солдат он часто в стороне [делает?] то, что велит командир и смешит публику и…, шут какой-то и в то же время… Жалкое существо, я его часто видел и всегда при этом думал о так называемых «темных» людях, в <нрзб.> своего сердца, которое заменил им свет ученого разума.