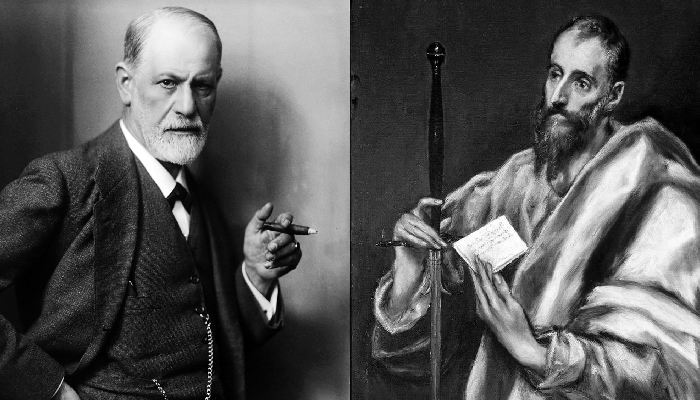Бессмысленный вопрос солдату: устали ли вы от войны, хотите ли вы домой?
16 февраля 2024 Юрий Нагибин
Предлагаем вашему вниманию выдержки из «Дневника» писателя Юрия Нагибина (1920-1994), те отрывки, которые посвящены участию самого Нагибина в Великой отечественной войне в качестве инструктора в отделах политуправления.
Сам автор поясняет в предисловии к «Дневнику»:
«Надо помнить, что военные страницы писались на фронте, в тетрадочке, которую очень легко найти, и при кажущейся ныне безопасности по тем временам тянули на „десять лет без права переписки“. На этот риск я шел, но расстрела мне не хотелось, поэтому я опустил всю печальную эпопею 2-й Ударной армии, разгром под Мясным Бором, окружение, пленение генерала Власова, чему сам был свидетелем. Эта позорная страница войны целиком на совести Сталина, ибо и Власов, и Мерецков, командующий фронтом, не раз предупреждали его о роковых последствиях попытки прорвать кольцо Ленинградской блокады по линии Чудово-Любань, где у немцев была самая глубокоэшелонированная оборона.
Не писал я и о том единственном бое, в котором участвовал, и о полетах на бомбежку, где я скидывал не бомбы, а листовки и газету для войск противника, которую мы издавали, — обо всем этом есть в моих повестях и рассказах».
1942
Волховская тетрадь
30 января
…По дороге шел лыжный батальон, хорошо снаряженный, вооруженный автоматами, клинками, с шанцевым инструментом на ремне и свернутыми плащ-палатками за спиной. Дети лет семнадцати. Они были все без исключения малорослы, трогательны и измучены. Они то и дело останавливались и бессильно ложились в снег, в странных, беззащитных позах — один на локте, другой на спине, ноги подогнуты, третий свернулся калачиком, как в своей детской постели. И все же я опять возвращаюсь к своей теме: если писать о них — неверно изображать их, как только безнадежных, малолетних страдальцев. Я вижу сквозь всю их усталость и тоску, как они метко бьют из-за брустверов, как с криком «Ура!» наступают под огнем противника, именно — наступают, то есть участвуют в этом сознательной силой, а не как стадо ягнят…
Всюду валяются трупы лошадей. Иногда трупы зашевеливаются и даже подымаются на шаткие ноги. Лошадь стоит пять, шесть часов, день; я не знаю, что бывает с ними потом. Верно, снова валятся на снег. Почти все трупы разделаны, мясо снято с ребер, груди. Лошади на дорогах войны — не кавалерийские кони, а тягловые, грустные лошадки, самое печальное, что только можно вообразить. Шкура висит, словно непомерно большой чехол на кукольной мебели, черные мутные глаза на длинных мордах с детской слезой, шаткий шаг, — у людей я пока что этого не видел. Вот в чем загвоздка!
31 января
…Одиночки войны. По дорогам, вернее, по тропинкам — дорог они избегают, — ходят одинокие люди. Бойцы в задымленных шинелях, закутанные в тряпки, с кроткими измученными лицами. Иногда при оружии, чаще без него, с одним лишь шанцевым инструментом, бредут они куда-то, не зная своей части, ни соединения, забыв номер полка, роты. Подсаживаются к чужому огню, разводят свой, питаясь невесть чем, и всё идут, идут. Это не дезертиры, у них словно и в мыслях нет бежать до родного дома, они как-то выпали из частей. Они не возвращаются в часть, даже не пытаются, сколько бы ни говорили, что ищут своих, но непреодолимая сила удерживает их вблизи фронта. Они не могут вернуться туда, но и не имеют силы уйти совсем. То ли это особое, страшное очарование войны, то ли простая человеческая нерешительность, — ни уйти, ни остаться, как все мы. Но сперва мне казалась более притягательной первая мысль: что они не в силах сами оторваться от войны, пока она не выбросит их за негодностью. Это чистейшая «липа»: могут, хотят, но нет решимости на прямое «преступление».
Ночью в лесу можно видеть огоньки костров, трупы лошадей искромсаны, чья-то тень мелькнет на дороге, перехваченная фарами. Это всё следы одиночек войны…
Всё движется между двух полюсов: расхлябанностью и ужасным, невероятным трудом, никому другому, кроме русского человека, неподсильным.
1 февраля
… Бессмысленный вопрос солдату: устали ли вы от войны, хотите ли вы домой? Солдат устает от войны сразу же после получения повестки и с того же момента хочет домой.
Что я здесь такое? Нерадивый канцелярский служащий, на плохом счету у начальства, — приходит в десять, уходит в пять, но за это время успевает получить больше попреков и взысканий, чем другой за месяцы круглосуточной службы. Повелевать мне не дано, надо хоть подчиняться уметь.
Залог мужской бодрости на войне: жены не могут попрекать мужей тем, что они мало зарабатывают.
6 февраля
…Сегодня я снова вернулся к мысли, вернее к муке: а надо ли было идти на такую войну? Это не война, а канцелярия под бомбежкой. Вся наша пшебуршня не стоит выеденного яйца. Неужели наша писанина и радиотрёп могут хоть как-то повлиять на немецких солдат? Но поди скажи об этом вслух. Шапиро попросил у Рощина, чтобы его отозвали в часть, так его чуть не растерзали. Даже начальник ПУ Горохов заинтересовался дезертиром. Ему грозили штрафбатом. Он сказал, что не возражает. А я понимаю, чего они так разошлись: его поступок разоблачает нашу паразитарность, ненужность войне. В результате бунтаря Айзиковича навечно прикрепили к оформлению отчетных папочек. Это то, что батальонный комиссар Кравченко называет умением показывать свою работу.
Абсолютное счастье на фронте: налопавшийся солдат садится на стульчак…
12 февраля
… Солдаты бодрости не чувствуют. Ее чувствуют здоровые, розовощекие люди из штабов, которые через день бреются и меняют воротнички на гимнастерке. Эти люди пишут бумаги, обедают в столовых, пугаются каждого самолета, подымают панику при каждом удобном случае, в остальное же время полны бодрой воинственной активности.
Сражаются больные, изнуренные и грязные неврастеники с обмороженными носами, усталым взглядом, и такие слабые, что их может осилить ребенок. Здоровые толстые бодрые люди пишут бумаги, посылают других в бой и достают обмундирование в военторгах.
13 февраля
… Вчера полковник, бодрый, с серебряными зубами и гладкими полными щеками, улыбаясь, посверкивая серебром во рту, рассказывал о бомбежках. Я ненавижу эти рассказы, это удальство, которое рождает не окончательная трусость.
На днях я сделал не то что-то очень хорошее, не то что-то очень современно человеческое. Когда началась бомбежка — а каждая бомбежка здесь означает несколько умираний, — я не торопился положить последние буквы в наборную линейку, потому что мне не хотелось умереть, не кончив набора какой-то пустенькой, но, очевидно, нужной статейки. Я вложил буквы, закрепил, переменил шпацию, снова закрепил и лишь после того задрожавшими руками стал сдергивать шинель, пояс, чтобы бежать вниз. Я думаю, тут дело не в бескорыстии, это новое обязательное душевное качество, вошедшее в плоть даже самых нерадивых. Нынешний человек весь раздавлен долгом, или, можно сказать, растворен в огромной стихии долга, понимаемого в самом широком смысле — народ, государство, дело. Мы все из людей превратились в людей дела. Дело долговечнее нас, оно преемственно, а людей у нас много. Мы все взаимозаменимы, потому что мы люди дела, а не творчества. Нельзя ценить своего существования в стране, где столько людей. Поэтому мы и воюем хорошо.
17 февраля
… Когда я вижу эту преемственность приказов — передачу их словно по ступеням лестницы, — от высшего к низшему, вы, обеспечьте, тов. генерал…, вы обеспечьте, тов. полковник…, вы обеспечьте, тов. лейтенант… старшина… сержант… боец такой-то, чтоб завтра было выполнено! — мне становится жутко. Я вижу этого «такого-то» бойца, на которого со всех сторон валятся все дела, порученные десятку «больших начальников»…
Военные люди ненавидят, когда им выдвигают какие-то препятствия и соображения при исполнении их приказаний. Это называется «философствование». У них на плечах и так задача почти непосильная: заставить людей умирать, приучить их к мысли о необходимости смерти…
24 февраля
…Из дневника одного убитого. Правильная мысль о том, что в армии необходимы небольшие, но постоянные меры поощрения. У нас так и делается, причем не только в армии.
Жизнь-то вроде армейской. Этим компенсируется отнятая у людей свобода мысли, слова и передвижения, то есть свобода духа. Все живут под плащом равной несправедливости, все равномерно приближаются к идеалу — «четырем ромбам», но подобно математическому иксу, стремящемуся к бесконечности, никогда его не достигают. Но это неважно — равномерное движение к идеалу, более грубому, человек предпочитает случайностям пути к личному высокому идеалу.
Опубликовано в издательстве «Книжный сад», 1996
Фото: Юрий Нагибин