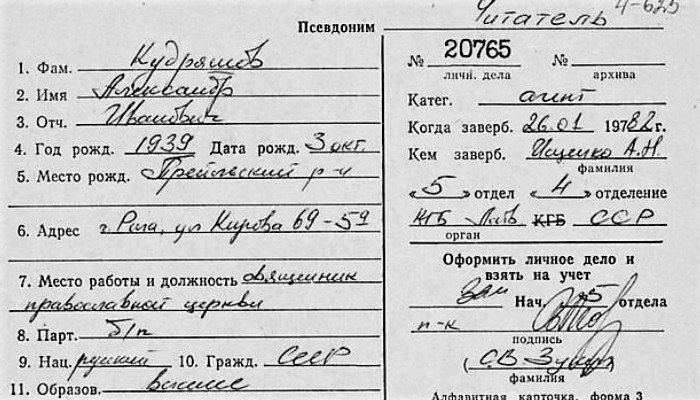Крапинки
12 августа 2017 Ольга Козэль
Моя вера в Бога началась с того самого мышонка у реки, которого я убила в семь лет. Вообще-то я не собиралась никого убивать. Просто шла под вечер с Рыжиком (это я свою подругу так величала – Рыжик) по берегу Лихоборки. В руке у меня была палка с гвоздем – тоже ничего удивительного: место безлюдное, хоть и в двух шагах от микрорайона, мало ли на кого нарвешься, поэтому даже малыши вооружались — всем, на что хватало подручных средств и, конечно, фантазии. У ног шуршала прошлогодняя трава – и из нее-то, из этой самой травы, выскочил прямо к нашим ногам мышонок. Я не успела ничего подумать – сработал охотничий инстинкт, развитый у маленьких детей не хуже, чем у животных. Размахнулась и ударила. И очень искренне удивилась, что зверек лежит и не двигается. Рыжик захлопала в ладоши: «Попала! Прямо гвоздем!» «Убила что ли?» — не поняла я. Рыжик взяла у меня палку, потыкала острием в мышонка. Сказала солидно, со знанием дела: «Кажись, да…»
Мы уложили мертвого противника на палку (уже были, видно, наслышаны про погибших воинов, которых в древности приносили на щите) и торжественно отправились его хоронить. Хотели сначала похоронить у реки, но потом решили, что это неразумно: Лихоборка разольется, выйдет из берегов и размоет могилу. Испортит всю нашу работу. Поэтому залезли на самый высокий холм. Извозились в глине – что поделаешь, да признаться, мы и до этого уже были чумазыми до ушей. Несколько раз мышонок падал со своего щита – мы снова поднимали его и укладывали – все молча, чтоб не нарушать важности момента. На холме долго выдирали траву и выковыривали могилку – земля уже растаяла, но из-за корней сделать в ней углубление оказалось делом непростым и небыстрым. Мы заботливо уложили убитого зверька в ямку. Бросили по комку земли. Почтили его память минутой молчания – мы уже знали из телевизора, что так всегда делают, когда в Кремле умирают важные люди. «А завтра придем сюда, разроем его и посмотрим скелет!» — серьезно проговорила Рыжик и мотнула отросшей челкой. Я ничего не ответила и потрогала собственный лоб – он был отчего-то горячий, как только-только вынутая из костра картошка. Это и спасло меня в тот вечер от материнского нагоняя за позднее возвращение.
Ни назавтра, ни через неделю мы не пришли. Ночью я заболела ветрянкой. Болела долго и тяжело – несколько ночей лежала в жару, скрипела зубами и несла разную околесицу. Палка с гвоздем валялась в тамбуре. Когда жар, наконец, спал, и я смогла поутру подойти к окну – выяснилось, что в мир пришло настоящее лето – с листочками, птицами и одуванчиками.
Разумеется, я стала упрашивать бабушку отпустить меня на улицу – и она, в конце концов, подчинилась моему яростному напору. Но только чтоб на полчасика – не дольше. И со двора не уходить, а посидеть с Рыжиком на крылечке. Рыжика не надо было долго упрашивать – она, бедняга, так стосковалась по мне за эти карантинно-ветряночные дни, что примчалась мигом. Разумеется, ни на каком крылечке мы сидеть не стали: не детсадовцы же, а вполне себе солидные люди – ученицы первого «А» класса – почти уже второго. Прихватив тайком от бабушки мою палку, отправились на речку – она не разлилась еще, только многообещающе бурлила под мостом, точно закипала.
Мы перебрались на другой берег – и зажмурились: миллионы, миллиарды одуванчиков окружили нас. Луг был желтым до самого горизонта, а за горизонтом ведь тоже, наверное, были они – одуванчики. Солнце задиристо лупило в наши затылки, а мы – хилые городские дети – застыли, пораженные очевидностью победы жизни над смертью. От земли, от солнца, от луга веяло прощением и лаской. Именно в тот миг я поняла, что не убивала. Потому что никто, никто в мире не может отнять жизнь – даже ударив по ней палкой с гвоздем. «Мы что, не пойдем сегодня туда?» — спросила Рыжик. «В другой раз…» — лаконично ответила я и незаметно отбросила палку. Потом освободившейся рукой взяла Рыжика за руку. Мы снова шли – долго-долго – ведь так много мест на свете, где нас, может быть, давно уже ждут. На самом деле, так оно и было – нас ждали. Только мы еще не знали, что это Бог.
***
У писателя Владислава Крапивина есть повесть «Оранжевый портрет с крапинками» — там про пацана, который мечтал о Марсе и однажды туда попал. Хорошая книга, настоящая. Для нас, малолетней братвы, урожденной в СССР, который вскоре благополучно распался, христианство было как раз таким Марсом. Вы спросите: это что, все пионеры Союза мечтали в детстве стать христианами? А я вам отвечу на это: «Вы видели среди детей хоть одного стопроцентного атеиста?»
Ну, так вот. В девятнадцать лет нас с подругой Зоей послали в лагерь для одаренных подростков. Лагерь находился в Суздале, юные музыканты занимались там целыми днями с известными профессорами, а по вечерам давали концерты. Мы с Зойкой, посмотрев на все это дело, возблагодарили Бога, что мы не музыканты, а поэты. Мы могли шляться где хотели – главное, чтоб к отбою были на месте. Скучать не приходилось – купались, рассматривали заброшенные Храмы и часовни, которых в городе в ту пору было в избытке… Обычно мы ходили вдвоем, а в тот день я почему-то отправилась одна. То ли мы поссорились, то ли еще что-то – короче, пошла я одна. Иду-иду, смотрю: стоит Храм. С крестом, как и положено, но издали видно, что заброшен. В окнах нет стекол – только ржавые решетки, вокруг заросли крапивы в человеческий рост, ящики какие-то свалены – видимо, от овощей или фруктов, штукатурка со стен облетела, наверное, еще в прошлом веке… Отыскала я дверь, даже пробралась к ней, подергала – заколочена. Обошла кругом. Жаль, думаю, окошки так высоко – ведь не ухватишься и не заглянешь. Хотя почему не заглянешь? Поставить эти ящики друг на дружку – и распрекрасно заглянешь. Поставила – и, хоть с трудом, но добралась до окна. Оно, по счастью, широким оказалось – я легко улеглась животом на теплый от солнца камень и, придерживаясь за решетку, глянула внутрь.
Внутри было не темно, а полусвет стоял – синий какой-то. Это от фресок, наверное, — в них много было синего цвета. Пола не имелось – осколки кирпичей, как всегда в заброшенных зданиях. Теперь я уже и не вспомню, в какой момент я услышала пение. Пел хор. Негромко пел, но и не тихо. Слаженно так пел – регент, наверное, хороший… Воцерковленная девочка, я не могла обмануться. Пели начало «Херувимской». Шла Литургия. Я попыталась выпрямиться, чтоб встать, как положено в этот важный момент службы – и едва не упала вниз, в крапиву. Вцепившись в решетку, перевела на секунду взгляд в сторону – и тут-то вспомнила, что болтаюсь на окне заброшенного Храма. Какая Литургия, я же только что своими собственными глазами видела заколоченную дверь! В следующее мгновение, оцепенев от ужаса, я рухнула-таки вниз. Обстрекалась крапивой, поранилась в кровь о какие-то осколки, но не заметила этого и бросилась бежать без оглядки.
Пришла в себя я только на мосту, ведущем к лагерю. Спустилась под мост, плюхнулась в траву. Ладони сильно кровили, но подойти к речке и обмыть их не было сил. Я попыталась призвать на помощь логику: хорошо, может быть, в Храм есть другой, тайный, ход, о котором я не знаю. И какие-то люди пришли туда и служили Литургию… Ох, но я же видела отчетливо весь Храм. Там были кирпичи на полу и фрески на стенах, и еще этот странный синий свет. Но не было никаких людей. Да, но я же своими ушами слышала, как поют Херувимскую! Померещилось? Не может быть – я слышала ясно и отчетливо! Позвать кого-нибудь? Надо бы, конечно, позвать! Но вдруг, если все узнают про Херувимскую, в Храме перестанут петь? Да кто перестанет-то? А кто это пел? Побродив вдоволь в своих умозаключениях по кругу, я поняла, что логика мне на этот раз явно не помощник. Но что было делать?
Страх постепенно оставил меня. Кругом трещали кузнечики. Я заставила себя встать, подойти к воде и опустить в нее окровавленные руки. Потом я улеглась на живот, подтянулась вплотную к воде. Долго и жадно глотала реку – вместе с ряской и своим отражением. Порешила, что никому ничего не скажу. Я никому и не сказала. Я и сейчас не скажу. Вы же не знаете, где стоит этот Храм.
Читайте также: