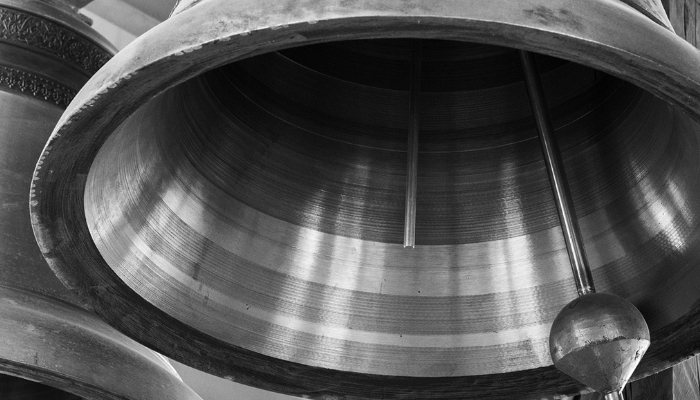Нас видно из темноты
18 августа 2019 Ольга Козэль
Из цикла «Шестнадцатый парк. Рассказы водителя».
***
Когда меня спрашивают — а спрашивают меня постоянно — почему это вдруг я решила в одночасье стать водителем автобуса, я пожимаю плечами. Решила — и всё тут, о чем, собственно, говорить? Но я точно знаю: все началось с того дня, когда умер парень в зеленом свитере. Я тогда работала редактором детского журнала, офис располагался на Воздвиженке, и сам офис, и красивое историческое здание, где он находился, и все мы принадлежали очень серьезным людям, имевшим самое непосредственное отношение к Кремлю, который находился тут же рядом, в конце нашей улицы. За забором нашего двора было Министерство обороны, из него на Воздвиженку выходили красавцы-летчики с погонами — и я оказывалась внутри фильма «Два капитана»; однажды мой шеф, допоздна засидевшийся на работе, испугался до обморока, увидев ночью свет во всех окнах Министерства — он решил, что началась война.
На банкеты привозились разные разности из кремлевской кухни — и ребята-администраторы, с которыми я приятельствовала, щедро угощали меня тамошними пирожками — из неживого слоеного теста. Я смеялась и запихивала в рот пирожок целиком. Иногда в Дом приезжала бывшая первая леди — и я очень огорчилась, увидев ее в первый раз: мне казалось, что первая леди непременно похожа на Марлен Дитрих или, на худой конец, — на дам Вертинского, а она оказалась совсем обычной женщиной, с добрым усталым лицом и стрижкой как у всех — точь-в-точь наша школьная учительница математики.
Вообще-то смерть витала в воздухе и до того дня. Дом на Воздвиженке охранялся вышколенными и безупречно вежливыми людьми в костюмах с иголочки, сияющие мрамором и софитами этажи неслышно открывались и закрывались пластиковыми карточками — и никакая сила в мире не могла бы открыть без карточек эти засовы-запоры, похожие на двери закрытого крематория для избранных; наши лица, отображавшиеся на всех мониторах во время перекура, были лицами мертвецов.
Напротив нас — через Воздвиженку — находился Дом приёмов, и когда туда заезжали одна за другой черные машины с тонированными окнами, высокий мужчина в костюме — совсем незаметный, несмотря на внушительный рост — заходил к нам и предупреждал, чтоб никто не подходил к окнам: на крыше соседних домов снайперы с винтовками. Я поначалу все равно лезла к окнам — нужно было посмотреть, какие у снайперов винтовки, а что меня застрелят — так это чушь, не будут же они открывать огонь через Воздвиженку! Наш главный художник, седой, усатый, похожий на старого профессора медицины, тогда сказал мне: «А знаешь, Оля, что случилось с твоей предшественницей? Она лезла к окнам — и ее убили снайперы, мозги валялись по всей редакции…» Все необидно и негромко засмеялись, я крепко выругалась про себя и отошла от окна. Мой коллега — верстальщик Пашка — клялся и божился, что под нами восемь этажей и дороги, которые ведут от министерства во все аэропорты страны, он горячился и доказывал, но Пашка любил выдумывать всякие штуковины — и я верила и не верила.
Ну вот, а в тот день — это был октябрь, самое начало, с утра пораньше мы с Антонычем из «Литучебы» отправились вниз — покурить и поделиться новостями, а там стояли два незнакомых парня в белых рубашках и неотрывно, точно их загипнотизировали, смотрели на роспись стены. В Доме на Воздвиженке то и дело проходили всякие семинары и тренинги, поэтому к чудикам, собиравшимся на практические курсы вроде «как стать миллионером?», все уже привыкли. Я покрутила пальцем у виска, Антоныч засмеялся, и тут мы увидели, что с минус-первого этажа совершенно одинаковые парни в белых рубашках — близнецы они все тут, что ли? — несут дерматиновую скамейку. На скамейке кто-то лежал.
Тут уже покатились мы оба. «Пид*расы» — выдавила я новое для себя слово, но увидела, как внезапно побледнел Антоныч, выронила папиросу, а на скамейке неподвижно лежал полноватый парень лет сорока, русый и в зеленом свитере. Мы с Антонычем, не сговариваясь, бросились к ним, нам преградила путь тень в костюме: «Возвращайтесь наверх, мы сами вызовем „скорую“, ничего не нужно, идите…»
Лифт с нами троими — мной, Антонычем и нашей подоспевшей начальницей — закрыл двери. «Он умрет, — сказала начальница, нахмурив тоненькие, почти невидимые брови, и поправила прическу перед лифтовым зеркалом.- Синяя полоса вокруг губ…»
Он, действительно, умер. Когда мы вышли во двор в следующий раз, не было ни скамейки, ни ребят в белом, ни синей полосы. Парень лежал на крыльце, глаза его были закрыты, а рот, наоборот, приоткрыт, как у спящего. Я не стану описывать его, хотя помню до мельчайших подробностей. Не знаю — почему, не хочу — и все тут. Мы курили, а он лежал в десяти шагах от нас.
Потом его накрыли черной пленкой, потом приехала полиция — и сняла черную пленку. К полудню начался дождь, вода с неба гасила наши папиросы и мочила мертвому волосы, лицо, свитер. Черная пленка валялась в стороне, я двинулась, было, к парню, чтоб прикрыть от дождя, тень в костюме метнулась сбоку и крепко взяла меня под локоть: «Нельзя подходить, возвращайтесь к своим, ничего не нужно…»
Это был очень долгий день. Я просматривала детские стихи из почты, созванивалась с какими-то школами, решала какие-то вопросы… Потом пришла девочка-поэт за авторским экземпляром журнала, я провожала ее через двор и закрывала собою мертвого. Если увидит и спросит, я скажу, что у дяди был день рождения, он крепко отметил, а теперь отдыхает… Девчушка, юная поэтесса, ничего не заметила — к счастью.
Нам было жаль его, бесконечно жаль. Но к концу дня мы уже все хотели одного: пусть он исчезнет — и все поскорее закончится и будет как прежде. Он измучил нас своим присутствием, он был мертв, а мы живы, мы ничего не могли изменить, и больше у нас не было никаких сил. Елы-палы, центр Москвы, Воздвиженка, почему не забирают мертвого, в спальные районы труповозка приезжает через полчаса, максимум через час.
Парня в зеленом свитере увезли в шесть вечера, через девять часов после смерти. Мы опять курили во дворе и смотрели, как неуклюжая машина с покойником не может развернуться, то и дело включая красные стоп-сигналы. Мы уже знали, что подходить и предлагать помощь нам никто не позволит. И мы были безмолвны, точно мертвые.
А дальше было неинтересно. Дальше руководство решило, что редакция обходится слишком дорого и нужно сократить расходы. Например, закрыть один из журналов. И убрать кого-то — для верности. Закрыли «Литучебу». И убрали меня. Да, я тащила в одиночку свой детский журнал, но это могли делать и другие, если поднапрягутся, с одним-то оставшимся журналом грех не справиться. Я пришла позже всех, за мной никто не стоял — и стоять не мог. И меня принялись выживать, а я ничего не могла понять долгое время. Я видела, что стала для всех как этот парень в зеленом свитере: все жалели, но сделать ничего было нельзя, а раз так… Я плюнула и написала «по собственному»…
В автобусном парке, куда я пришла, был кругом металл, горячий воздух, запах топлива. Когда я в первый раз сама завела движок — то задохнулась от счастья. Машина была живая, настоящая — как живыми и настоящими были все эти ребята в форме, выбоины в асфальте, березы на стоянке, автоматы с кофе, задушевные разговоры ни о чем перед рассветом, когда машины уже заведены, и до выхода из парка пятнадцать минут, и ты куришь, дышишь бензином и солнцем, которое взойдет вот-вот, когда ты будешь заканчивать первый рейс.
Парень в зеленом свитере долго снился мне. Теперь не снится. Хорошо это или плохо — не знаю. Я ему иногда говорю про себя: ты приснись, я не буду против, все хорошо, ничего не нужно, я жива, я о тебе помню…
Если вам нравится наша работа — поддержите нас:
Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)