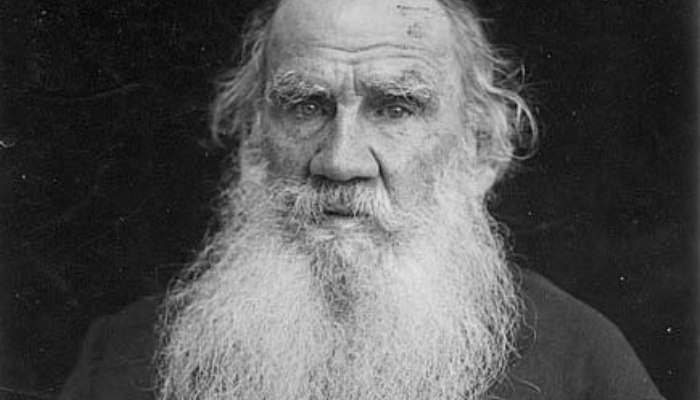Нравственная личность Толстого (окончание)
15 декабря 2019 Николай Лосский
Окончание, начало тут.
***
Но как осуществить такую полную свободу, которой требует душа Толстого? Не безумие ли требовать свободы, будучи такою ничтожною дробью мира, как человек? Какой-нибудь пустяк, напр., речь моего соседа, обращенная даже не ко мне, есть уже насилие надо мною: она вторгается помимо моей воли в мое сознание, отрывает меня от спокойного течения мыслей, раздражает меня, и я не в силах, а главное не в праве, помешать ей. Живя в таком мире, человек, настолько чуткий к свободе, как Толстой, не обречен ли на непрерывные и безвыходные страдания?
Да, без сомнения, Толстой не мало страдал, но выход из страданий он нашел и, усмотрев его, со страстною решительностью пошел по новому пути. Этот путь — любовь. Если я не люблю человека, то звуки его голоса, как отвратительный треск, врываются в мое сознание назойливее грохота ломовой телеги, нагруженной железом; но если я его люблю, то слова, даже и раздавшиеся неожиданно, среди моих занятий, как музыка, охотно подхватываются мною, и насилия надо мною нет.
Расширение любви есть спасение личности от гибели, указание этого пути есть сущность христианства, которое говорит: «живи сообразно твоей природе (подразумевая божественную природу), не подчиняя ее ничему — ни своей, ни чужой животной природе, — и ты достигнешь того самого, к чему ты стремишься, подчиняя внешним законам свою внешнюю природу». Любовь есть надежный путь жизни, на котором не встречается «ни борьбы с другими существами, ни прекращения блага, ни пресыщения им». Идущий по этому пути «перенес свою жизнь в ту область, в которой она свободна», и достиг жизни «блаженной и бесконечной», свободной от страха смерти, так как человек, живущий разумно, не дорожит пространственно-временною личною жизнью, а пребывает в той области своего бытия, о которой можно сказать: «я есмь — никогда нигде не начинаюсь, никогда нигде и не кончаюсь».
И, действительно, во втором периоде своей жизни Толстой примирился с фактом смерти, часто заявлял о спокойном и радостном ожидании ее, сознавая в себе в то же время нарастание радости жизни и чувства «благодарности за благо жизни».
Нужна исключительная одаренность, чтобы так решительно вступить на путь проповеди любви и осуществления ее, как это сделал Толстой после своей «Исповеди». В сочинениях и письмах первого периода он часто говорит о счастье любви и сознании в себе уменья любить.
Но все же в этом отношении есть разница между первым и вторым периодом его жизни. В первом периоде он смотрит на любовь только как на средство для достижения свободы или счастья, средство, за которое он хватается, когда чувствует себя несчастным, и иногда даже сомневается в нем, находя, что проповедь любви есть рассуждение, которым утешают себя несчастные. Наоборот, во втором периоде он сознает любовь как сущность души, и интересно обосновывает эту мысль путем исследования понятия «характера», как совокупности стремлений, т. е. как совокупности проявлений любви к одному, а не к другому.
Как сущность души, любовь не есть средство для достижения какой-либо вне ее лежащей цели, она ни на что не рассчитывает, она есть цель сама по себе, но следствием ее являются и те блага, которые Толстой считал высшими в первый период своей жизни: полная свобода и полная удовлетворенность.
Что нового в этой проповеди любви? Ведь она стара, как мир, и после Христа к ней никто ничего не прибавил? Толстой знал об этой иллюзии, будто нравственные истины давно уже известны. «Сообщите, — говорит он, — человеку самую высокую нравственную истину, выраженную самым ясным, сжатым образом, так, как она никогда не выражалась, — всякий обыкновенный человек, особенно такой, который не интересуется нравственными вопросами, или тем более такой, которому эта нравственная истина, высказываемая вами, не по шерсти, непременно скажет: „Да кто ж этого не знает? Это давно известно и сказано“. Ему, действительно, кажется, что это давно и именно так сказано. Только те, для которых важны и дороги нравственные истины, знают, как важно, драгоценно и каким длинным трудом достигается уяснение, упрощение нравственной истины — переход из ее туманного неопределенно сознаваемого предположения, желания, из неопределенных, несвязных выражений, в твердое и определенное выражение, неизбежно требующее соответствующих ему поступков».
Толстой прав. Проповедь любви присуща, правда, всем высшим формам религии. Но общего провозглашения этого принципа недостаточно; нужна упорная работа множества гениев нравственности, чтобы открыть все следствия, вытекающие из него, найти пути для осуществления их, отразить все софистические выводы лживого ума, усыпляющего совесть, и разоблачить все приемы одурманивания совести.
На этом поприще Толстой не мало потрудился и многого достигнул. Правда, в его сочинениях есть десятки страниц, заполненных именно тем, что он сам считает лишь первою стадией выражения нравственной истины, «туманными, неопределенно сознаваемыми предположениями, желаниями», на этих страницах можно найти не мало противоречий (напр. тогда, когда он определяет цель жизни как любовное служение страдающим, а страдание считает результатом преступления человеком закона своей жизни, так что оказывается, что цель жизни может быть достигнута человеком только в том случае, если другие люди не будут осуществлять цели своей жизни), но рядом с этим у него повсюду рассеяны сверкающие перлы этического сознания.
Упомянем здесь только об особенных заслугах Толстого в освещении социально-психологической стороны нравственной жизни. Свою способность проникать в психическую жизнь человеческих масс он блестяще обнаружил в художественных произведениях, особенно в «Войне и мире». Некоторые из его художественных описаний того, как механизм государственной власти отражается в душе индивидуума, напр. изображение расстрела французами пленных русских в Москве, имеет громадное значение для моралиста. В своих этических сочинениях он дает весьма интересные указания на усыпляющее совесть влияние городской жизни, на обособление людей друг от друга, вызываемое разделением труда и т. п.
Сосредоточением внимания на нравственной стороне общественной и государственной жизни определено понимание христианства, данное Толстым. Исторические формы враждующих между собою «видимых» христианских церквей оттолкнули его от себя, в особенности своим отношением к инославным и защитою различных видов насилия, производимого государством. Изобличение этих недостатков церкви выполнено Толстым с огромною силою, но, пожалуй, главная его заслуга здесь заключается в одном открытии, изображающем проповедь Христа в необычном свете и требующем, конечно, проверки со стороны специалистов.
Обыкновенно говорят, что учение Христа относится к сфере личной нравственности и не касается вопроса о строе государственной жизни. Толстой держится иного мнения. Сущность христианства, говорит он, состоит в проповеди любви и выражается в пяти заповедях, имеющих целью устранить поводы раздора между людьми. Эти заповеди таковы: 1) не сердись, 2) не блуди (т. е. если ты вступил в плотский союз, не нарушай его для вступления в союз с другим лицом), 3) не клянись, 4) не противься злу злом (откуда в качестве следствия получается предписание: не судите, чтоб не судиться и не присуживайте никого, 5) не воюй. Из этих пяти заповедей большая часть, именно три последние, согласно толкованию Толстого, прямо имеют в виду государственную жизнь, и исполнение их ведет к упразднению государства, как строя жизни, основанного на насилии.
Однако воздержание от всяких видов насилия еще не решает вопроса о правильном поведении. Кроме знания о том, чего не надо делать, или что нужно делать в экстренных случаях, необходимо еще более важное знание, что делать ежедневно, ежеминутно. На этот вопрос у Толстого есть чрезвычайно простой и ясный ответ, содержащий в себе бесспорную истину: каждый человек должен выполнять все основные виды деятельностей, необходимые для создания благ, в которых нуждается человечество: «Деятельность человека, которая влечет его к себе, разделяется на 4 рода: 1) деятельность мускульной силы, работа рук, ног, плеч, спины, тяжелый труд, от которого вспотеешь; 2) деятельность пальцев и кисти рук, деятельность ловкости мастерства; 3) деятельность ума и воображения; 4) деятельность общения с другими людьми.
И те блага, которыми пользуется человек, тоже можно разделить на четыре рода. Всякий человек пользуется, во-первых, произведениями тяжелого труда: хлебом, скотиной, постройкой, колодцами, прудами и т. п., во-вторых, деятельностью ремесленного труда: одеждою, сапогами, утварью и т. п., в-третьих, произведениями умственной деятельности: наук, искусств, и в-четвертых, установлением общения между людьми: знакомствами и т. п. И мне представилось, что лучше всего было бы так чередовать занятия дня, чтобы упражнять все четыре способности человека и возвращать все четыре рода произведений, которыми пользуешься так, чтобы четыре упряжки были посвящены: первая — тяжелому труду, другая — умственному, третья — ремесленному и четвертая — общению с людьми. Хорошо, если можно устроить так свою работу, но если нельзя, одно важно, чтобы было сознание обязанности на труд, обязанности употреблять на дело каждую упряжку».
Толстой указывает многочисленные благотворные следствия такой организации труда. Главнейшие из них — восстановление полноты индивидуальной жизни, нарушенной неправильным разделением труда, восстановление физического и умственного здоровья, устранение обособления между людьми, вызванного крайним различием в занятиях, успокоение совести, мучимой сознанием несправедливого неравенства в распределении благ и труда и, наконец, устранение опасностей революции.
В обществе людей, проводящих свою жизнь в таком труде, на основании христианского сознания, по мнению Толстого, не может быть мотивов для сложения государственного строя, так как в нем одни не стремятся господствовать над другими, а государство, по мнению Толстого, есть не более, как организованная эксплуатация одних людей другими с помощью гипноза, подкупа, устрашения и насилия. Совершенная христианская любовь неизбежно сопутствуется совершенной свободой, при которой государству с его насилиями (присягою, судом, казнями, войнами) нет места!
По мнению Толстого, русский народ более всего склонен к такому строю жизни: в нем «особенно со времени Петра I никогда не прекращался протест христианства против государства»; среди русского народа «устройство жизни таково, что люди общинами уходят в Турцию, в Китай, в необитаемые земли и не только не нуждаются в правительстве, но смотрят на него всегда как на ненужную тяжесть и только переносят его как бедствие».
Без сомнения, Толстой впал в крайность, типичную для русского человека, усматривая в государстве только зло и полагая, что совершенная общественная жизнь требует полного упразднения государства. Однако идеал, резко выдвинутый им, — создание такого общежития, при котором социальное целое не подавляло бы и не обедняло бы (путем неправильного разделения труда) индивидуальности человека, а также не насиловало бы совести, настоятельно требует осуществления. По мере развития человеческой личности, раскол между требованиями совести и складом государственной и общественной жизни становится все более глубоким, положение делается невыносимым и опасным.
Недаром весь мир прислушивался с таким вниманием к голосу Толстого, как к голосу внутренней совести всего человечества. При встрече с Толстым всякое честное правительство, искренне стремящееся к добру, должно, несмотря на все обидные замечания, вырывающиеся у Толстого, почтительно встать и не препятствовать, а содействовать распространению его сочинений. К тому же борьба с Толстым бессильна, так как добро неискоренимо.
«Церковь, составленная из людей не обещаниями, не помазанием, а делами истины и блага, соединенными воедино — эта церковь всегда жила и будет жить». «Мало, много ли теперь таких людей, но это та церковь, которую ничто не может одолеть, и та, к которой присоединяются все люди».
«Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. XII, 32).
Опубликовано: Журнал «Логос», 1911
Если вам нравится наша работа — поддержите нас:
Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)