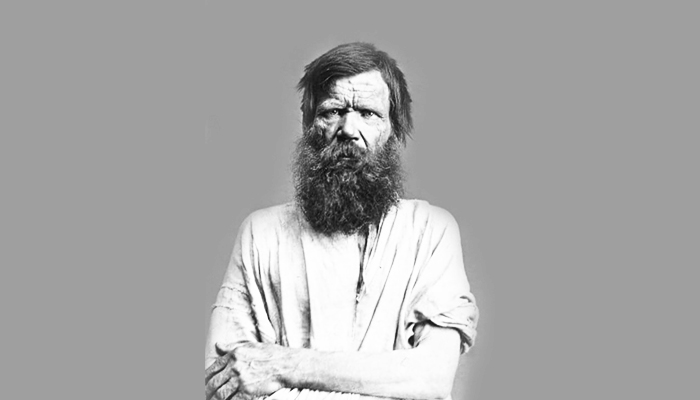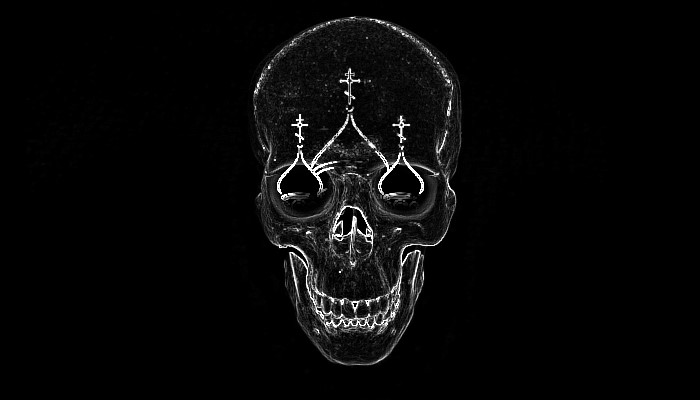Собачья жизнь
22 мая 2021 Дитрих Липатс
Посвящается светлой памяти Ирины.
Рыжий пес бежит по лесной дороге. Под густыми елями вечер уже обратился в ночь; в просвете между вершин зажглась проснувшаяся звезда.
«Ищи, Чандр, ищи!» Науськиваю я красавца колли, бегу следом, стараясь не отставать.
Вот пес остановился, внюхиваясь в грунтовую дорогу, кажется, даже дышать перестал, и вдруг бросился в лес, оглашая радостным лаем мокрую тишину.
Недалеко от дороги, я нашел-таки свою бывшую. С четверть часа назад, она, разобидившись на какой-то пустяк, убежала в лес. Вешаться. Теперь, сидя темным силуэтом на пеньке под елью, она задумчиво гладила собачью голову. Я стоял рядом.
«Не думала, что ты так быстро меня найдешь. Хитрый, собака!»
Относилось это ко мне, а не к Чандру. Я не удивился и не обиделся. За четыре года, проведенные с моей любимой, я каких только слов от нее не слыхал. Эти были обычными. Не о моих, однако, отношениях с моей первой женой этот рассказ. Вспоминается мне куда чаще красавец колли — умный домашний пес.
Рожденный собирать на ошейник награды и пополнять гордостью хозяйские сердца, щенок был снисходительно принят в семейство, не признающее, вообще-то, домашних животных. Главной задачей ничего не подозревающего щенка было отвратить сестру моей бывшей жены от неразумностей юности. В свои шестнадцать Бэлка уже умудрилась сделать аборт и даже попасть на учет в милиции, чем сильно подпортила родительскую репутацию. Породистая собака должна была и в своей хозяйке воспитать гордость и аристократизм.
Надежды, однако, не оправдались. После перенесенной в щенячьем возрасте чумки, морда Чандра стала дергаться нервным тиком на правую сторону, отчего и черный его нос скривился направо, как бы в ухмылку на задумку хозяев. О победах на собачьих выставках пришлось забыть. Бэлка же, не совладав со своею природой, занималась одновременно и собакой, и безрассудствами.
За пса было плачено сто рублей. Он появился в семействе вместе с полиэтиленовым мешком таблеток и снадобий, должных поддержать его экстерьер и здоровье. В первую ночь он плакал человеческим голосом, разыскивал по углам свою мохнатую мать и докучливых собратьев. Успокоила его махеровая кофта, которую он стащил с кресла своей новой хозяйки. Кофта была только что связана, но оказалась маловатой, и лежала там в ожидании роспуска. Ядовито-зеленый-рыже-белый комок — щенок в обнимку с кофтой — лежал в углу, моргал печально глазами и оглашал тишину тяжкими вздохами. Ничего поначалу не ел, только пил воду, а лужи ходил делать на кухню, к газовой плите. Новые хозяева перезванивались по телефону с хозяевами прежними. Те уверяли, что все в порядке, так и надлежит ему, псу, ко всему относиться, и ему опять гладили спину и уши и говорили ласковые слова.
Его водили на улицу. Там было мокро и все время хотелось уйти с холодного асфальта на мягкую почву, но его тянули за поводок обратно. Большая хозяйка тянула осторожно, что-то говоря мягким голосом, а дочка ее дергала больно, и голос ее был резок и зол.
С большой хозяйкой они бродили по дорожке под березами, а с девчонкой проводили время в теплых подъездах. Там он садился на кончик ее сапога, и хоть все курили и говорили так, будто вот-вот поссорятся, это было лучше, чем бродить по холодному и мокрому асфальту.
Беда случилась, когда Бэлка, напившись портвейна из горлышка зеленой бутылки, забыла, что ему трудно за ней поспевать. Стараясь не отстать от друзей, что брели куда-то сквозь осеннюю ночь, она тянула его, уже совсем мокрого и грязного, за поводок. Когда, наконец, пришли они домой, он был сразу подхвачен на руки большой хозяйкой, а большой хозяин чем-то вдруг резко шлепнул за спиной, и раздался вопль, куда более страшный, чем обычный резкий крик девчонки. Сердце щенка наполнилось тянущей тоской, и он задрожал, хозяйка подумала — от холода, но дрожал он от страха. И думается мне, может, и не от чумки произошел тот ежеминутный тик, исказивший собачью морду, а от неспокойной жизни, которой вдосталь хлебнул и я в том семействе.
Отчего собаки с ранних своих дней умеют вздохнуть так тяжело? Он еще тяжелее вздыхал, когда понял, что молодую его хозяйку нередко бьют. Так и его ударили однажды, когда, заигравшись, он напустил лужу в комнате большого хозяина. Тот сначала что-то говорил громким голосом, так же, как говорил с дочерью, а потом нагнулся и ударил его широкой ладонью позади спины, как и ее бил по щеке — неожиданно и звучно. Лапы побежали на одном месте по линолеуму, пока коготки не зацепились за ковер и не вынесли его в коридор. В ту комнату он больше старался не заходить. Даже когда хозяин, будучи в хорошем настроении, откладывал в сторону газету и чмокал толстыми губами, щенок, оставаясь в коридоре, ухмылялся, виляя хвостом, но порога не переступал.
В ту комнату никому нельзя было заходить. Она запиралась на ключ, в ней всегда пахло пылью и было душно. Узкое и длинное пространство еще более удлинялось шкафом, стоящим вдоль стены. За шкафом следовала кровать, а по другую сторону стоял старинный диванчик, на который не садился даже и сам большой хозяин, секретер и большой ящик цветного телевизора, что лишь пару дней простоял в большой комнате, а потом был перенесен сюда, чтобы не смотрел его без спросу никто другой. На полу лежал ковер, другой ковер, свернутый в рулон, был засунут под кровать, и еще два таких рулона свисали концами со шкафа, в котором, он знал, с одной стороны висела и лежала одежда, а с другой, за дверцей, запертой на особый маленький ключик, хранились всякие коробки, в которые хозяин часто заглядывал и что-то там перебирал.
Я помню собачий испуг, когда непутевая дочка вдруг бросилась с кулаками на отца. Дело было в начале мая. Натан Семенович получил ветеранский продуктовый заказ (да не один, а два) и был в отличном настроении. За обедом, общим на этот раз, он с достоинством разнообразил стол копченой колбасой, балыком и даже баночкой черной икры. За открытым окном робко шелестели молоденькой листвой деревья, доносился чей-то говор, чуть колыхались тюлевые занавески. Натан Семенович подливал мне спирта, а жене и старшей дочери — наливки из большой оплетенной бутыли. На этот раз он занимался воспитанием не своих женщин, а меня. Он учил меня правильно пить спирт. Спирт я терпеть не мог, но водка в тот день к столу не подавалась.
После трех полустаканчиков, глава семейства предался фронтовым воспоминаниям. Служил он в обслуге боевой эскадрильи штурмовиков, не раз побывал под обстрелом, был ранен. Осколок снаряда полоснул его по носу, и с тех пор лицо моего бывшего тестя приобрело загадочную асимметрию. Шрам давно стерся, и при взгляде в лицо Натана Семеновича трудно было понять, чем оно было так необычно.
Мне всегда почему-то казалось, что Натан Семенович похож на Ротшильда. Я никогда не видел даже и фотографии этого богача, но почему-то был уверен, что Натан Семенович, в одном из своих выходных костюмов, при галстуке и золотой печатке на безымянном пальце правой руки (весь его облик говорил о том, что пустяковую эту печатку он надел лишь из скромности, не желая смущать присутствующих блеском огромного бриллианта, что он позволил себе на старости лет, так, между прочим) ни в чем: ни в осанке, ни в манере разговора, ни в общении с дамами, не уступит легендарному миллиардеру.
Про настоящие доходы и симпатии Натана Семеновича не знал никто из домашних. Раз пришлось ему лечь в больницу, по причине камней в почках, и через пару дней позвонила какая-то совсем молоденькая девушка. После некоторой заминки она наконец попросила его к телефону, а узнав, что он болен, вдруг так разрыдалась, что возмущенной поначалу жене пришлось ее успокаивать. Девушка, не дослушав, повесила трубку. Натан Семенович был неподдельно удивлен этой историей, однако пояснений, как это обычно бывало, не предоставил. Другой раз, заглянув к нему в комнату через приоткрытую дверь, жена увидела его сидящим у секретера. Настольная лампа подсвечивала лицо с шевелящимися губами, обратив основную часть своих лучей туда же, куда обращены были взгляды: в пухлую пачку денег, что толстые пальцы перебирали привычными движениями счета. Почувствовав на себе внимание, Натан Семенович не смущаясь произнес: «Это — казенные». Он работал начальником отдела снабжения при большом проектном институте, и у него, конечно же, могли быть казенные деньги. Жена же, как обычно, заключила — врет. Слово «врет», вообще-то, к Натану Семеновичу не подходило. Вернее было бы сказать, что он «не говорит правды», но и это вряд ли бы что изменило, потому что никаких объяснений все равно бы не последовало.
В тот предпраздничный день ветеран был в отличном настроении. Утром, на автомобильной толкучке, что была в то время где-то на кольцевой автодороге, он с выгодой сбыл покрышки и что-то там еще, что ухватил посреди недели, заглядывая к своим знакомым в автомагазины. Почти сорок лет назад, вместе с такими же парнями, он победил фашистов в беспощадной войне, потом учился, женился, достигал благополучия, и вот, на склоне лет, патриархом восседает среди домашних и учит жизни молодых. Как это случалось не раз, обращался он, в основном, ко мне. Из всего семейства я один слушал его без тени раздражения и даже с нескрываемым любопытством. К дочерям он не приставал; не хотел портить себе праздника. Те умели возвращать его тяжелый, полный ненависти взгляд весом в пушечное ядро.
Натан Семенович показывал, как летчики пили спирт после полетов. Он просил жену принести фронтовой самодельный портсигар, на котором мессер со свастикой кадил дымом, падая в серебряный лес, а самолет со звездой улетал в простор серебряных же небес, потому что вся картинка была нацарапана иглой на жести, и все на ней казалось серебряным, даже надпись «Закурим, Натан!»
Портсигар тот валялся на даче, все об этом, кроме самого его обладателя, помнили, и потому лица женщин окрасились усмешками. Очередные рюмочки и полустаканчики пошли уже совсем хорошо.
Потом, сидя уже в креслах, мы слушали: «Прибежал прямо в ГУМ, прямо к дяде Моне…» из старенького, тарахтящего мотором магнитофона «Комета». Я поставил фотоаппарат на автоспуск и вся компания: я, моя бывшая, ее непутевая сестра, теща и пес с перекошенной ухмылкою мордой (подгадал же момент!) запечатлелись на снимке, посреди которого Натан Семенович выделялся, привлекая к себе взгляд и затмевая нас, сереньких. Все было хорошо, и все были довольны, и глава семьи даже пригласил нас всех к себе в комнату смотреть какой-то фильм по цветному телевизору, но тут… Дура-Бэлка дала щенку копченой колбасы. На глазах у ветерана Великой Отечественной.
«Я, сволочь такая, на фронте кровь проливал! — кричал Натан Семенович сквозь звук пощечины, что успел-таки отвесить нелюбимой дочке. — А ты…» Дальше последовали совсем уж непечатные слова, перекрываемые вдруг странным звуком. Я подумал — волки воют по цветному телеку, да тот еще не успели включить. Нет, то выла Бэлка, вкладывая в страшный тот вой все свое разнесчастье и ненависть. Она вцепилась отцу когтями в лицо, и тот откинул ее великолепным боксерским ударом. Голова бедолаги бухнулась о сервант, теперь завыла уж теща. Я посмотрел на щенка — тот, словно окаменев, дрожал крупной дрожью, словно предчувствуя свой конец.
Кина по цветному телеку в тот день, конечно же, не было. Натан Семенович удалился к себе. Спустя с полчаса он вышел в своем лучшем костюме при орденах и медалях, спустился вниз, сел в свои красные жигули и уехал. Все победные праздники о нем не было и слуху, и дочки начали уж было надеяться, что сгинул он безвозвратно. «Что б он сдох!» — говорила Бэлка с ненавистью.
В послепраздничный понедельник, вечером, Натан Семенович, насвистывая, вернулся домой и стал жарить картошку в топленом масле. Домашние на глаза ему не показывались.
Умер Натан Семенович лет десять спустя, и бывшая моя, поведав об этом по телефону, просто сказала, с какой-то даже нежностью и сожалением: «А у меня папа умер». И звучало это так, словно не было и в помине ненависти и нелюбви, что не покидали это семейство. Смерть примирила всех. Смерть способна разрешить неразрешимое.
Это было потом, когда поменялась и перекорежилась вся налаженная жизнь, а тогда мы все пребывали в состоянии полувойны, которую, впрочем, Натан Семенович и не замечал. Будь я склонен к «достоевщине», как выразится иной улитературный человек, хватило бы мне материала на целую семейную сагу, но куда мне до великого композитора симфоний скандалов.
Натан Семенович отчаянно любил земную жизнь. Он и породистого щенка-то приобрел, подчеркивая свои успехи и достаток. Бывало, едва отправит свое семейство на дачу, пойдет на рынок, накупит всяческой снеди и пирует в одиночестве. Скажете — жадность? Ничуть не бывало. Просто не могли дочки и жена оценить изобилие жизни по достоинству. Ранняя южная клубника потреблялась бы ими с той же горечью нескончаемой обиды и презрения. В молодой, посыпанной пахучим укропом и политой сметаной, картошке искали бы они подвох. Но подвоха-то и не было. Было торжество богатого стола. И обиды у него не было: не терпел он обид, старался их забывать, но не могли простить они — домашние враги его, потому и пировал он в одиночестве, а уж, что там думают о нем, наплевать ему было.
Родился Натан Семенович в семье ювелира, человека уже пожилого и бедного. Бедного потому, что по первому же требованию новых властей отдал все, что нажил. Работая в советской артели, доживал он последние свои годы скромно, потому что был мудр и понимал — былого уж не вернуть. Понимал он и то, что соплеменники его — блудные сыны Сиона — прорвавшиеся к власти, напортили не только себе, и что недалек тот час, когда снова погонят их всех похлеще, чем при царе-батюшке Николае. Так для чего ж было жить?
Первая жена с дочками канула безвозвратно в Гражданскую, где-то под Саратовом, на пути к спасительному Черному морю, а жена вторая, поначалу и вовсе неродица, принесла наконец мальчишку — ждали-то девочку.
Жили под Москвой. Там, где теперь платформа «Северянин». В чьей-то брошенной летней дачке. О бывшей квартире на Покровке и заказал себе вспоминать. Зимами протопить дачку было мудрено, и малыш плакал, кашлял, и плакал опять. Надрывно и требовательно. «Как большевик», — думал Симеон, но вслух того не говорил, и все вспоминал сгинувших дочек; те в младенчестве были тихи.
И следующий его отпрыск оказался мальчишкой. Спустя полгода Симеон помер, просто не проснулся однажды утром. Семья, однако, не бедствовала — жена знала, где искать оставленное на черный день. Эти сокровища обернулись проклятием его потомству.
«Ты должен надевать юбочку, папа хотел, чтобы ты был девочкой», — говорила мать четырехлетнему Натану, которого вовсю дразнили во дворе за девчоночье обличие. «Ты посмотри в зеркало — вылитая девочка! А какие кудри!» И мама, поцеловав проборчик на макушке, отправляла сына, одетого в платье, гулять. «Непослушным не оставляют наследства», — прибавляла она, и он умолкал, питая к этому, непонятному еще, слову мистическое уважение.
Косички и юбочки кончились лишь перед школой, когда мать с сыновьями переехали на другой край Москвы. О девчоночьем прошлом Натана здесь знал один лишь его брат. Брата мать пребольно высекла, чтобы он забыл о том раз и навсегда.
Брата Натан не любил, и друзьями они никогда не были. Мать, стараясь получить выгоду из борьбы сыновей за ее расположение, поддерживала взаимонеприязнь между братьями. Тайну сокровищ, или «наследства», как было принято это все называть, знала только она.
В начале пятидесятых бараки, в которых они проживали, снесли, и им дали комнату в доме на улице Воровского. Показывая мне это здание, моя бывшая рассказала про коммунальную кухню, где выложенные белым кафелем стены напоминали морг.
«Мы с Бэлкой бабку ненавидели», — сказала она тогда.
«Почему?» — спросил я.
«Потому что она — сволочь», — последовал ответ.
О бабке в семействе не заговаривали. Ее потемневшая фотография, с которой смотрела строгая, с вытянутым вверх черепом, женщина, хранилась у Натана Семеновича в секретере. Показывая мне раз то фото, он по-детски стал чмокать толстыми губами и звать: «Мама, мамочка…» А потом вдруг сказал, что были бы его дочки с бабушкой повежливее, уважали б ее побольше, сейчас бы как сыр в масле катались.
Моя бывшая, сидевшая рядом, фыркнула и вышла из комнаты, а ее отец, тяжело вздохнув, закрыл секретер на ключ и потянулся к газете, давая понять, что аудиенция окончена.
Комнату на арбатских задворках и квартирку на Семеновской, что дали Натану Семеновичу за самоотверженную общественную работу, удалось обменять на трехкомнатную квартиру в северных новостройках. Победа над старшим братом была одержана — мать предпочла Натана. И тут в семействе начался настоящий ад. Бабка требовала от внучек обращения на «вы», бабка требовала мытья рук, приборки комнат, учения уроков, застегнутых пуговиц. Внучки бунтовали. По вечерам бабка докладывала сыну о том, что старшая так хлопнула дверью, что посыпалась штукатурка, а Бэлка обозвала бабушку крысой, что уроки остались несделанными, а пол неметен. Бабка требовала пребольной порки для обеих, а невестка, мать девочек, сечь их не давала. Разъяренный отец драл-таки дочек ремнем, влетало и жене, бросавшейся на защиту. Бабка заявляла, что хуже она никогда не жила, и грозилась переехать к старшему сыну.
Сделать, что грозилась, она так и не смогла. После одного из скандалов ее хватил инсульт. Вернувшись с работы, Натан Семенович застал мать лежащей на диване, лишенной речи. Левая половина ее тела была парализована. Лишь красивые темные глаза смотрели еще молодо и зло, да губы шевелились беззвучно, стараясь высказать то, последнее, что еще жгло уже останавливающееся сердце.
Все «наследство» оказалось завещано старшему сыну. Спустя несколько лет, когда тот как сыр в масле откатал свое и успокоился навеки, Натан Семенович даже удивился приглашению на похороны, заявив, что брата у него никакого никогда и не было.
Все, что хотят, пусть говорят мне, но многое было в Натане Семеновиче хорошего. Бывало звонил он в ЖЭК и всерьез распекал тамошних работников за то, что посреди дня горят лампочки в подъездах. Раз, на даче, он так быстро и ловко сработал оконную раму, что я только по-доброму позавидовал. Подвозя кого-нибудь на машине, денег он никогда не брал, по крайней мере при мне. Раз, собираясь с друзьями на рыбалку, я накопал на даче червей и забыл ту банку у него в машине. Сожалея об утраченных юрких червяках с гладкой лоснящейся от садовой земли кожей, я копал хилых, едва подвижных червей в московском своем дворе, у забора, где мужики и собаки справляли малую нужду. На таких червей, думалось мне, не клюнет и последний ершик. Вдруг возле меня остановилась машина, открылась ее дверь, и Натан Семенович, во всем великолепии своем, появился в весеннем воздухе, держа в руке жестяную увесистую банку, полную обещаний рыбацкого счастья.
Когда вышел Натан Семенович на пенсию (ему это удалось сделать раньше срока, по причине инвалидности), у него в комнате появился особый станок для вязки шарфиков, предоставленный артелью инвалидов. Пенсионер теперь трудился по утрам в углу своей комнаты, что-то мурлыкая под нос и ставя палочки на бумажку, что лежала рядом. Каждая палочка означала рублик. Этот наглядный труд, по словам Натана Семеновича, был тем трудом, о котором он давно мечтал, пребывая на всяческих административных должностях.
Не знаю, как относились к нему сослуживцы, но домашние одновременно и не любили его, и восхищались им. Моя бывшая с увлечением рассказывала историю о том, как ее отец ездил в далекие страны Океании, откуда и привез свою инвалидность. «Липовую», как утверждала вредная Бэлка.
История была такова. Институт, в котором работал Натан Семенович, не был засекреченным «почтовым ящиком». Тамошний профком часто вывешивал объявления о заграничных путевках. Одной из таких возможностей — поехать посмотреть Индию, Малайзию и Сингапур, — Натан Семенович и загорелся.
После долгих оформлений всяческих бумаг, по которым выходило, что он кристально чист перед властями и имеет всего лишь одни недостаток — беспартийность, в группу туристов его все-таки не включили. Тогда находчивый человек явился прямо в отдел, решавший, кому ехать, кому — нет, и напрямую громко спросил начальницу, что на свою беду оказалась стоящей посреди комнаты, полной сотрудников и посетителей: «Вы не пустили меня в поездку, потому что я — еврей?»
Продолжение того разговора до меня не дошло, но пару месяцев спустя Натан Семенович, со следующей поднадзорной группой, отбыл в азиатские страны. Да вот незадача! Все содержимое его пухлых чемоданов, набитых кипятильниками, утюгами, бутылками шампанского и бутылками водки, початыми и непочатыми, и еще многим-многим барахлом, предназначенным к обмену с аборигенами, было вписано в какую-то там декларацию, обязывающую владельца привезти назад все, что не может быть съедено и выпито.
Дочки злорадно хохотали, вспоминая, скольких трудов стоили отбывающему туристу сборы. Смаковали истории о том, как ветеран, сойдясь поближе с одной из сотрудниц отдела, выпросил у нее списки людей, ездивших в ту сторону света прежде него, как высмотрел там еврейские фамилии и переписал адреса. Как являлся к тем людям нежданным, с тортом и шампанским, и все выяснял, что такое прихватить с собой для обмена на кожаные пиджаки и полудрагоценные камни, что так мало ценятся в тех местах.
Минуло две недели, отведенные для пребывания Натана Семеновича за пределами Страны Советов. Бывшая моя теща поехала в Шереметьево, куда прибывал ее супруг, везущий на родную таможню злополучные отечественные электроприборы. Ее чуть не хватил удар, когда руководитель группы на ее вопрос о муже зло процедила сквозь зубы: «Ваш муж остался в Сингапуре». Хорошо, что была она не одна — было кому дать ей корвалол и отвезти домой на такси.
Натан Семенович, тем временем, пребывал в комфортабельном азиатском госпитале за счет Советского Консульства. При перелете из Индии в Сингапур с ним случился сердечный приступ. Об истинности болезни в семействе язвили много, мне же думается, что причиной всему был страх перед родными таможенниками, что поджидали его на обратном пути. Большую часть утюгов и бутылок со спиртным путешественник все же поменял на бомбейских толкучках на кожаные пиджаки и другие соблазны, и теперь вез в Сингапур то, за чем и забирался на край света.
Перепуганные стюардессы обеспечили подачу машины скорой помощи к борту самолета, с Натаном Семеновичем впервые обращались по его достоинству: отвезли в хороший госпиталь, положили в отдельную палату, где он, по словам дочек, симулировал инфаркт. Сколько я не спорил с ними, говоря, что кардиограф не обманешь, все было напрасно — обе они были уверены, что не построено еще такого прибора, которого бы их папочка не смог надуть.
Оказалось, что во время всей той возни у больного пассажира пропала сумка с японской магнитолой. Пришедший проведать попавшего в беду туриста работник Консульства шума попросил не поднимать. Спустя неделю, когда больному было разрешено гулять тихим шагом по близлежащим улицам, они вместе зашли в супермаркет, где Натан Семенович не задумываясь ткнул пальцем в один из лучших магнитофонов и в скромную кожаную сумку. Дочки потом говорили, что таким образом он отомстил подлой таможне, и что магнитофон, который он вез из Индии, был гораздо хуже новоприобретенного. «Если вообще он у него был!» — добавляла злыдня-Бэлка.
В Сингапуре Натан Семенович обменял остатки советского товара. Помню, за пачку сигарет он выменял модные темные очки, которые отошли потом мне по причине неудобства их сидения на носу.
Советскому Консульству было рекомендовано отправить отставшего от группы приболевшего туриста морем, но тут случилось еще одно маленькое обстоятельство, осветившее моего бывшего тестя добрым светом. На Советском консульстве в Сингапуре висел, как полагается, красный Советский Флаг, знамя, за которое была пролита кипучая молодая кровь Натана-солдата. Позднее он рассказывал, что как увидел тот флаг, на глаза его навернулись слезы, и так захотелось домой, что о долгой поездке морем он и думать не хотел. Упросил, чтобы отправили его самолетом.
Таможенники были посрамлены: о подлой декларации никто и не вспомнил.
На диване Натана Семеновича проветривались кожаные пиджаки, положение которых меняли по нескольку раз в день. В секретере под замком успокоились связки гранатовых бус, что, точно, обошлись довольно дешево. Моя бывшая вернулась домой от родителей (мы в ту пору уже жили отдельно) со слезами на глазах: мать и Бэлка, на ее восхищение изобилием, презрительно усмехнувшись, осведомились, отчего она думает, что ей что-то достанется? Я, защищая золовку и тещу, предположил, что они, видно, и в своей-то доле сомневаются, на что получил уверение, что слова те были сказаны с презрением богача к нищему.
Мудрый Натан Семенович, и правда, все куда-то уволок, оделив, однако, домашних, чтобы не было обид. И вовремя. Несколько дней спустя, открывая дверь на настойчивый звонок, Бэлка вместо своего милого увидела на пороге двух молодых и красивых, показывающих ей свои красные книжицы и еще какую-то бумагу, оказавшуюся ордером на обыск. «Ну и хрен с ним!» — подумала Белка и, пожав плечами, пропустила оперативников с понятыми в квартиру. Взламывая отцовские замочки, стражи закона, к удивлению Бэлки, натыкались на ничто не стоящую дребедень, наполнявшую жизнь обыкновенного советского человека. Перебирая белье в шкафу, оперы спрашивали про какую-то шерсть на шпульках. Белка отвечала, что ни о какой шерсти ничего не знает, и ломала голову над тем, куда делись все отцовские богатства, включая дефицитные книги и свернутые в рулоны ковры. Остатком былой роскоши стоял лишь на подоконнике японский магнитофон-приемник, подаренный Советским Консульством.
Вернувшийся вечером хозяин пришел в справедливое негодование. Он названивал куда-то по телефону, написал и в тот же вечер отправил какие-то письма, и, спустя неделю, ему принесли извинения, и даже прислали какого-то особенного слесаря, который починил все взломанные замочки.
Домашним Натан Семенович рассказал, что за пару дней до того обыска, он сидел в своих новых жигулях, что приобрел, вернувшись из-за границы, и ждал открытия комиссионного магазина. К нему подошел какой-то парень и предложил купить шерсть на шпульках. Шпульки Натан Семенович повертел в руках, но посчитав сделку подозрительной, ничего не купил. Какая-то зараза записала номер его машины, парня в тот же день арестовали работники ОБХСС, заодно нагрянули и к ветерану, опозорив его перед всем подъездом. Когда все улеглось, вещи, включая свернутые в рулоны ковры, вернулись на свои места.
Сколько бы ни виделось домашним плохого в предводителе их семейства, я не мог подтвердить, что Натан Семенович был лишь грубым делягой и негодяем. О соплеменниках, переселявшихся в Израиль, он и говорить не хотел, как не вспоминал обокравшего его брата, — считал их предателями. Как-то раз за праздничным столом мой бывший тесть вытянул с полки сборничек стихов Риммы Казаковой, раскрыл наугад и начал читать что-то там про деревенскую глушь. И совсем еще не пьяный, задрожал вдруг голосом, и я увидел крупную, катящуюся по его смуглой щеке, слезу. «Хорошо пишет, девчонка!» — сказал он с теплотой, и мне стало ясно, что не так это просто — приколоть ярлычок на человека, прожившего долгую жизнь.
Нет, не правы были дочки! Не «липовой» была болезнь того сердца. Натану Семеновичу недолго удалось попользоваться государственной пенсией. Услышав о его кончине, я подумал, что и плохие, и хорошие, все мы умираем навсегда, и даже если и оставляем о себе память, то надолго ли?
Какова же была судьба красавца колли, совсем позабытого в моем рассказе? Его продали, как только у Бэлки родился крепкий мальчуган со здоровенным носом и мудрым, как у Натана Семеновича, взглядом. Какой-то прохожий отставной полковник восхитился породистым псом и предложил за него сто рублей. Спустя пару месяцев Бэлка напросилась навестить бывшего своего любимца и была ошарашена тем, что жил пес в роскошной квартире, спал на настоящей медвежьей шкуре и получал на обед антрекоты.
Если вам нравится наша работа — поддержите нас:
Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)