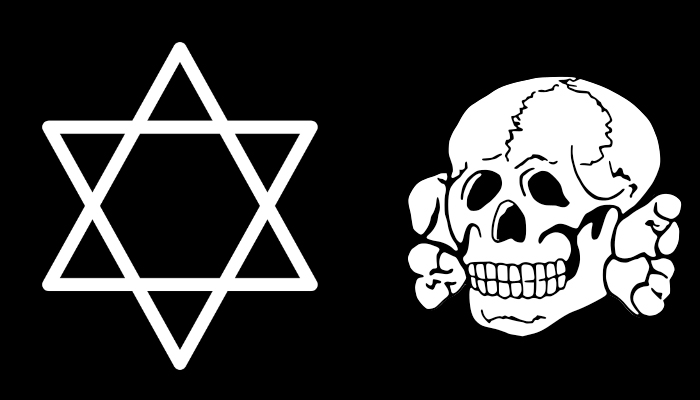Великое уравнение
22 октября 2023 Амаяк Тер-Абрамянц
1
Он лежал в темноте и думал, как Уйти. А то, что Уйти придется, он уже решил определенно. Уйти придется, ибо каждый миг жизни чреват невыносимой душевной болью, болью, о возможности которой он и не подозревал. Он как будто лишился опоры в пространстве, оказался в невесомости, еще хуже — в состоянии непрерывного и бесконечного падения в бездну. Он и не представлял, что таким болезненным окажется враз лишиться и друзей. Теперь он будто жил без кожи, когда любое обыденное движение вовне, любое впечатление, любое слово, звук, пошлая мелодия из радио не вызывают ничего, кроме боли, и уход был единственным средством от этой боли избавиться. Исповедаться родителям невозможно и бессмысленно — не поймут. Для них, вышедших из войн и голодовок, детям жестоких времен, его чувства покажутся лишь блажью.
Ах, если бы было так просто прекратить жизнь, как включить или выключить свет в комнате, он бы ни минуты не колебался! Самым надежным был бы пистолет, но пистолета не было. Но как уйти, минуя боль? В сознании он перебирал варианты — и надежность, и быстроту, и не мог найти подходящего варианта. Таблетки отпадали сразу — опасных снотворных в аптеке без рецепта не выдавали, а прочие средства были очень ненадежны и непредсказуемы.
А что если, вот сейчас, подняться на крышу дома и… Однако для этого надо совершить массу движений — одеться, выйти из квартиры незаметно, вызвать лифт, подняться на девятый этаж, найти люк на крышу… Нет, слишком долго, за это время он успеет отвлечься от задачи и утратить решимость.
Ах как много значили в его жизни Володя и Маша! И зачем, зачем их солнечную дружбу он перевел в плоскость грубых физиологических отношений?
И как светло им было вместе темными зимними вечерами в ветхом деревянном одноэтажном доме у Маши, у камина! Их общение наполняли стихи, музыка их старого патефона Битлз, и разговоры, разговоры о случаях из жизни, впечатления о тех краях и странах, где им удалось уже побывать, и мечты, мечты и планы на лето.
Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран,
И мир опять предстанет странным,
Окутанным в цветной туман!
И
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои,
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне!
Но они не молчали, они говорили и говорили, и им открывалась высшая свобода — свобода речи, свобода духа!
Всем им было по двадцать восемь, и у каждого уже был свой первичный опыт. И конечно мечты, исполнение которых мнилось таким близким. Стать писателем! Ведь она первая поверила в его талант, после того как он зачитал свой рассказ, пробу пера «Лестница» — все происходящее на лестнице с утра до самого позднего вечера. И чувство было такое, что он горы своротит! А теперь все! КОНЕЦ! Так грубо и неожиданно…
Тогда он поверил в собственный талант. И его совесть была абсолютно спокойна, когда у них случилось с Машей. Ведь все прошло легко и ко взаимному удовольствию. И он не думал совсем, что предал Володю, имевшего, в отличие от него, на Машу серьезные виды. Лишь утром, когда уходил от нее по сельской улице, было знамение. Две тощих и облезлых собаки, сука и кобель… кобель наскакивал сзади на суку, но та всякий раз визжала от боли, и кобель отступал. Валентин похолодел, но тут же постарался забыть, изгнать наваждение.
А потом, а потом, а потом… Маша сказала, что любит Володю, и призналась ему во всем. И он потерял сразу обоих, и потеря Володи для него оказалась более болезненной, чем потеря Маши. В Володе он осуществлялся с детства, в школе они сидели за одной партой, и его доброжелательное внимание ему было необходимо как пища, а он его предал! Странно: до признания Маши он себя и предателем и не чувствовал — будто ничего и не произошло!
И все же, и все же, и все же, наиболее верный способ — поезд, электричка! В то время он работал в реанимации и знал, что поездные травмы самые безнадежные. Он шел по железнодорожному мосту по пути на работу обычным маршрутом и приноровлялся: прыжок вниз, мгновение боли и все! Хотя и здесь не наверняка: он вспомнил случай, когда в отделение привезли парня из-под поезда — череп его лопнул над бровями и был виден розовый мозг. Но самое удивительное было, что парень был еще в сознании и отвечал на вопросы: как его звать, адрес жительства… Несовместимая с жизнью травма… Дежурный врач вкатил ему из гуманности кратную дозу фентанила, отключил сознание, ускорив переход человека в вечный сон.
Он шел через мост, а внизу с воем подходила зеленая электричка. «А вот если взять и сейчас!? — Нет, лучше после рабочего дня на обратном пути…» Это почему лучше, ты просто боишься! — усмехалось скептическое внутреннее я. Я не боюсь! — возражало другое, гордое я. Ну так прыгни, — усмехалось первое, — докажи! Так кому же доказывать, меня-то не будет? — спрашивало второе. А что если прыжок не будет удачным, и он отлетит? Страшно, страшно, — издевалось первое.
На работе, надев халат, он не вышел на утренний обход, а сидел в ординаторской, решая главный вопрос: «Надо решиться, доказать, что я не боюсь! — Но кому доказать, ведь меня уже не будет?» Он вновь и вновь повторял тезис и антитезис, сглатывая слюну. И вот, когда он повторял который раз дилемму, он вдруг почувствовал, что у него растет язык. Он рос и рос и уже не помещался во рту. Пришлось его высунуть. Таким его и застали сослуживцы — с высунутым языком и мутным взглядом. Вкололи успокоительное, вызвали такси и сопроводили домой.
Через знакомых родители нашли психиатра, готового проконсультировать «частным образом», чтобы постановкой на учет в психдиспансере не испортить дальнейшую жизнь сыну. Психиатр поставил диагноз — реактивная депрессия, и назначил громовые дозы радедорма и анаприлина. Участковый врач вошел в положение и дал фиктивный бюллетень по диагнозу пневмония.
Психиатр был первый, кому он исповедался, все проговорил. Это был благополучный чуждый человек, и его удивили нравственные муки пациента. Он посоветовал оправдать себя в этой ситуации, но Валентин отказался обманывать и оправдывать самого себя. «Послушайте! — воскликнул психиатр, потеряв терпение. — Ну нельзя же быть настолько честным! Ведь ваша честность уже угрожает вашей жизни!» Психиатр был красивый брюнет в дорогом костюме, с золотым перстнем с печаткой. Человек выгоды, сосредоточенный на собственном благополучии, — абсолютно чуждый человек. Но дело свое знал и назначил таблетки.
Почти целый месяц Валентин проспал, просыпаясь лишь для приема пищи и лекарств. А потом наступило самое трудное. Пришлось выходить на работу и вести себя так, будто ничего не случилось, в то время как от сгоревшей старой души с ее гордыней остались лишь угли. Внутренне он был пуст. Любое впечатление или слово, самое нейтральное и пустяковое, будто касалось открытой раны и вызывало боль, и он ждал часов сна, законного небытия, как избавления от нее.
Но обнадеживала мысль, что человеческое тело изменяется полностью до последнего атома за семь лет. За это время новая душа должна была нарасти. Значит надо было перетерпеть.
2
Костер потрескивал и посвистывал, зыбкий полупрозрачный дым висел над поляной. В этот день Валентин учил пятилетнего сына Гришку разжигать костер с одной спички. Он чувствовал себя наполненным, счастливым.
Воспитание для родителя — это своеобразный университет жизни, может быть, самый главный: вместе с ростом ребенка происходит пересмотр жизни, начиная с самых ее основ, как бы ее обновление. И в обнаружении себя в любви — на первом и втором годах дитяти — когда каждый месяц что-то непостижимым образом приобретается: вот впервые сел, вот впервые встал, впервые пошел вдоль стены, пробежал от стенки к стенке, забавно откинув назад, вроде крылышек, ручки… и каждый день сегодняшний непохож на вчерашний… и маленький человечек удивительно забавный и смешной в своей неуклюжести… Невозможно не полюбить ребенка, если обладаешь чувством юмора! Радость и смех помогают преодолению первых двух лет, полных труда и бессонниц.
А чудо речи? Ведь никто его специально не учил, а он начинает говорить. Как? Почему? Валентин как ни следил, так и не смог понять этой тайны — как происходит чудо овладения языком, одним из самых сложных в мире! А его невольные открытия в словообразовании: шиколек, пассажирный пароход, ни себе чего! Я не неряха, я ряха!..
И какая энергия исходит от младенца, когда берешь его на колени: будто теплая вода по ногам струится… Воплощение в отцовстве дарит все большую уверенность в себе, в своем поступке, в слове: теперь в разговоре или в споре подходящее слово или выражение как бы само собой, без предварительной мысли, слетает с языка. Воистину, как сказал Уильям Водсворт, «ребенок — отец человека»!
Каждый день отпуска был расписан: сходить в зоомагазин, наполненный птичьим свистом, чириканьем, запахами проса и органики, на местный рынок, посетить краеведческий музей и увидеть модель трехмачтового парусного корабля, сходить в бассейн, где сын показал успехи в обучении плаванию, а сегодня вот лес, костер и печеная картошка! Обычные вещи открывались по-новому в своей первозданной поэзии и глубине! И каждое утро — спортплощадка перед ближней новой школой, с металлическим столбом, по которому Гриня забирался все выше к перекладине на высоте третьего этажа, а отец волновался и ждал внизу, растопырив руки, готовый в случае падения подхватить. А вечерами непрерывное строительство вместе с соседским мальчиком городов и рвов на песчаной куче напротив окна квартиры. Предстояла еще рыбалка на ближней речке, кафе-мороженое, освоение двухколесного велосипеда… Да, раньше его малые дети раздражали, а теперь он их полюбил! Он понял: любовь к детям — показатель зрелости мужчины.
3
Напротив окна — пестро-зеленая стена листвы. Стена перекрывает соседние дома, перекрывает небо. Пестрая от бесконечных сочетаний листьев — светло-зеленых, освещенных солнцем, и темно-зеленых, оказавшихся в тени. Эти тысячи сочетаний различного взаимоположения и освещенности листьев, не умещаемых в сознании за один взгляд, и потому при каждом новом взгляде стена кажется иной, обновленной. Он каждый день лета смотрел на стену, кажущуюся метафорой человечества, где каждый листик — судьба. Смотрел, как на икону, радуясь.
Он не думал о небытии, а радовался каждому дню, отвоеванному у вечности.
Он смотрел на зеленую стену и чувствовал, что за ней вся прожитая им жизнь. Но невозможно ее вспомнить сразу всю, а лишь эпизоды, случайно всплывающие в сознании, зачастую совершенно незначительные, и это его почему-то тревожило. Воспоминания наши подобны снам: в них исчезают детали пережитой действительности, образы становятся расплывчатыми, остается лишь ощущение. Но мысли остаются в цельности. В чтении активизируется воображение, развивается нейросеть мозга, формируются новые связи между нейронами, чего нет при просмотре фильма. Наверное, в этом и его вина — в том, что Гриня ушел на несколько лет в компьютерные игры: не сумел настоять. Чтобы оторвать сына от игр, он повез его на неделю в Петербург, надеясь, что обилие новых впечатлений оторвет сына от тяжелой игромании. Напрасно, как оказалось: и при осмотре золотых шедевров Петергофа сын думал о том, как сделать очередной ход в видеоигре в дурацкой межпланетной битве.
Теперь кажется странным, ведь как-то само собой почему-то разумелось, что у хорошего человека и любые желания в принципе не могут быть плохими. Конечно, сын, который отдалился от него после женитьбы, принадлежит жене. Впрочем, отдаление от него у сына началось гораздо раньше, лет с десяти. Сын считает его неудачником, раз не сумел скопить, украсть миллион. Он-то так не считает — всю жизнь, слава Богу, не уронил честное имя, а сын, все на деньги мерящий, и не подозревает, как это много! К собственному удивлению, подобный разлад отца с сыном он наблюдал и у многих друзей и знакомых. И это навело на мысль, что подобный негативизм сына к отцу заложен самой природой, необходимый этап созревания самостоятельной личности. Не удалось ему передать ту форму счастья, которой он обладал, которое приходит через искусство, природу, размышления над хорошей книгой. И пришлось смириться. Не судьба!
Он смотрел на листву и думал, что все мы лишь частички человечества, частички великого и непостижимого уравнения жизни, в котором, возможно, предусмотрено даже то, что нам мнилось свободой выбора.