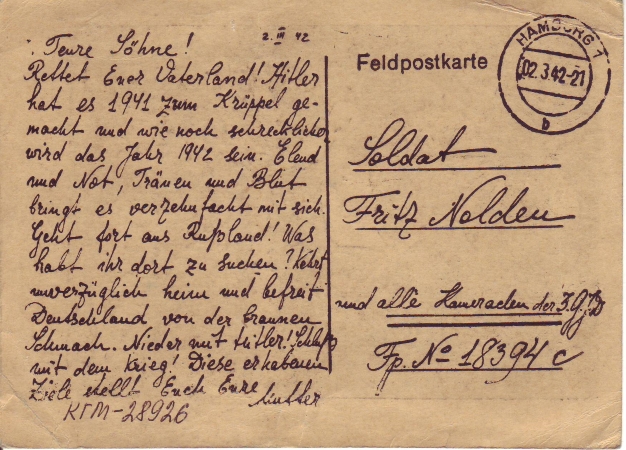Война как футбол
22 января 2024 Себастьян Хафнер
Себастьян Хафнер (настоящее имя Раймунд Претцель, 1907-1999) — немецко-британский журналист, публицист, историк. Автор биографических и исторических книг. Одна из самых известных его книг — «История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха», эту книгу он написал в эмиграции в 1939 году. Предлагаем вам отрывки из этой книги.
Семилетний мальчик, который недавно понятия не имел о том, что такое война, не говоря уж о таких вещах, как ультиматум и мобилизация, вскоре уже знал о войне [Хафнер рассказывает о Первой мировой войне — прим. Ахиллы] (как если бы всегда знал) не только «что», «как» и «где», но даже и «почему»; знал, что в войне повинны французская жажда реванша, английская зависть и русское варварство, — теперь я с легкостью выговаривал все эти слова. В один прекрасный день я начал читать газеты и поразился тому, с какой легкостью все там понимаю. Мне дали карту Европы, и с первого взгляда на нее я понял, что «мы» запросто разделаемся с Францией и Англией, но испытал смутный ужас перед огромностью России, однако же позволил успокоить себя тем, что устрашающая многочисленность русских ничего не значит при их невероятной глупости, распущенности и беспробудном пьянстве. Я шпарил наизусть — причем, повторюсь, с такой скоростью, будто всегда их знал, имена военачальников, данные о численности и вооружении армий, водоизмещении флотов, я помнил расположение важнейших крепостей, линии фронтов — и очень скоро понял, что здесь разворачивается интереснейшая игра, что жизнь стала куда ярче, напряженнее, волнительнее, чем прежде. Мое воодушевление и мой интерес к этой игре не ослабли до горького ее завершения.
Здесь я хотел бы взять под защиту мою семью.
Голову мне задурили отнюдь не там. Мой отец жестоко страдал с самого начала войны. Он весьма скептически смотрел на воодушевление первых недель; психоз ненависти, который за этим последовал, был ему глубоко отвратителен, притом что сам он, разумеется, был лоялен и патриотичен; и, конечно, желал победы Германии. Он принадлежал к тому немалому числу либералов в своем поколении, что в глубине души были уверены: войны между европейцами ушли в далекое прошлое. Он, если так можно выразиться, не мог ничего поделать с разразившейся войной и, подобно многим другим либералам, с презрением отвергал любую возможность самообмана на сей счет. Пару раз я слышал от него горькие, скептические слова, касавшиеся теперь не одних только австрийцев, — эти слова неприятно поражали меня, охваченного неподдельным военным воодушевлением. Нет, вовсе не отец и не семья были повинны в том, что в течение нескольких дней я сделался фанатичным шовинистом и «диванным стратегом».
В этом был повинен — воздух; безымянное, ощутимое всеми порами всеобщее настроение; водоворот массового единства, одаривавший каждого, кто в него бросался (буде это даже семилетний мальчик), неслыханными эмоциями; того же, кто оставался вне этой стремнины, душил вакуум одиночества. Охваченный наивной страстью, без тени какого-либо сомнения или конфликта, тогда я впервые ощутил воздействие странного дара моего народа — впадать в массовые психозы. (Этот дар, наверное, является компенсацией малой одаренности немцев в том, что касается индивидуального, личного счастья.) Мне не приходило в голову, что исключить себя из такого радостно-всеобщего беснования вообще возможно. Ни разу не мелькнула у меня мысль об опасности того, что делает тебя столь безоглядно счастливым и ежедневно дарит такое праздничное, блаженное состояние.
И впрямь для тогдашнего берлинского школьника война была чем-то глубоко нереальным: нереальным и, однако, существующим — будто игра.
Ведь за все время войны не было ни одного авиационного налета, на Берлин не упало ни одной бомбы. На улицах появлялись раненые, но они были далеко и выглядели со своими белыми повязками прямо-таки шикарно. Конечно, у нас были на фронте близкие, конечно, то в одну семью, то в другую приходили похоронки, но ребенок на то и ребенок, чтобы легко привыкать к чьему-либо отсутствию; а то, что это отсутствие из временного становилось вечным, теперь уже не играло роли. Мало что значили и реальные неудобства, которые принесла война. Плохая еда — ну, понятное дело. Позднее — очень мало еды, грохочущие по школьному полу деревянные подошвы, перешитые костюмы, собирание обглоданных костей и вишневых косточек в школе, частые болезни. Но я должен признать, что все это не производило на меня такого уж сильного впечатления. Не в том дело, что я переносил тяготы как «маленький герой». Об этом и речи не было.
О еде я думал так же мало, как футбольный болельщик во время финального, решающего матча. Сводки с фронтов интересовали меня значительно больше, чем какое бы то ни было меню.
Сравнение с футбольным болельщиком может быть развито. В самом деле, я, ребенок, был тогда болельщиком войны. Сказать, что я стал жертвой яростной пропаганды, которая должна была в 1915-1918 годах подстегнуть ослабшее воодушевление первых месяцев войны, означало бы погрешить против истины — нет, настолько плохим я не был.
Я столь же мало ненавидел французов, англичан и русских, сколь мало болельщик «Портсмута» «ненавидит» игроков «Вулверхэмптона». Естественно, я желал их проигрыша и поражения, но только потому, что их унижение и разгром стали бы оборотной стороной победы и триумфа моей команды.
Для меня имела значение лишь завораживающая привлекательность военной игры, той, в которой число пленных, захваченные территории, завоеванные крепости и потопленные суда — все равно что голы в футболе или очки в поединках боксеров.
Я не уставал вести таблицу подобных «голов» или «очков». Я был прилежным читателем военных сводок, данные которых «пересчитывал» согласно собственным, опять-таки довольно иррациональным, таинственным правилам. По этим правилам, например, десять русских военнопленных равнялись одному французу или англичанину, а пятьдесят самолетов — одному броненосцу. Если бы печаталась статистика погибших, я, разумеется, не преминул бы подобным же образом «пересчитывать» павших, даже не догадываясь о том, как в действительности выглядит то, над чем я произвожу арифметические операции. То была темная, таинственная игра с нескончаемым порочным возбуждением, которое перечеркивало все, делало незначительной, попросту несуществующей действительную жизнь, одурманивало, наркотизировало, словно рулетка или курение опиума. Я и мои товарищи играли вот так всю войну, четыре долгих года, безнаказанно и беспрепятственно — и эта игра, а отнюдь не безобидная игра в «войнушку», которой мы баловались на улицах и во дворах, была тем, что оставило во всех нас свои опасные следы.
Наверное, если бы речь шла о единичном случае, не стоило бы подробно описывать, как, разумеется, неадекватно, реагировал на мировую войну ребенок. Однако то был вовсе не единичный случай. Так или примерно так в детстве или в ранней юности восприняло войну целое поколение немцев; и что особенно важно, именно это поколение готовит сейчас новую войну.
Оттого что эти люди были в ту пору детьми или подростками, их восприятие тогдашних событий не делается менее сильным и не перестает сказываться в дальнейшем — напротив! Душа масс и душа ребенка в своих реакциях очень похожи. Невозможно себе представить, насколько ребяческими по самой своей сути являются теории, которые способны поднять массы и повести их за собой. Для того чтобы стать движущей силой, большие, серьезные идеи должны опроститься буквально до детского уровня. Сложившееся в детстве, а затем в течение четырех лет вколачивавшееся в мозги совершенно фантастическое представление о войне может спустя два десятилетия превратиться в смертельно опасное мировоззрение большой политики.
Война как великая, вдохновенно-волнующая игра народов, способная одарить более глубокими переживаниями и более сильными эмоциями, чем все, что может предложить мирная жизнь, — таков был с 1914 по 1918 год ежедневный опыт целого поколения немецких школьников; это и стало основой позитивного образа нацизма. С этим связана неотразимая притягательность войны как игры: простота, активизация фантазии и желания действовать; отсюда же нетерпимость и жестокость по отношению к политическим противникам; впрочем, тех, кто не желает играть, считают даже не противниками — к ним относятся как к вредителям, срывающим интересное состязание. И наконец, из этого естественным образом вырастает враждебное отношение к любому соседнему государству: потому что любое из подобных государств воспринимается не как «сосед», но как враг volens nolens — ведь в противном случае игра вообще не состоится!
Очень многое позднее содействовало нацизму, а также модифицировало его сущность. Но здесь, в этом детском переживании, лежит его исток — именно не во фронтовом опыте немецкого солдата, а в переживании далекой войны немецким школьником. Фронтовое поколение в большинстве своем дало очень мало настоящих нацистов, да и сегодня плодит в основном «нытиков и маловеров», что объяснимо: тот, кто пережил войну в реальности, оценивает ее совсем по-другому, нежели тот, кто видел войну издали. (Есть и исключения: вечные солдаты, для них война со всеми ее ужасами осталась единственно возможной формой жизни — и вечные, потерпевшие жизненный крах неудачники, с полным восторгом воспринимающие ужасы и разрушения войны; этим, считают они, отмщено жизни, для которой сами они оказались недостаточно сильными. К первому типу принадлежит, наверное, Геринг, ко второму наверняка Гитлер.) Поколение настоящих нацистов — люди, родившиеся в десятилетие между 1900 и 1910 годом, воспринимавшие войну вне ее реальности, как большую, захватывающую игру.
Пер. с нем. Никиты Елисеева под редакцией Галины Снежинской, СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2016