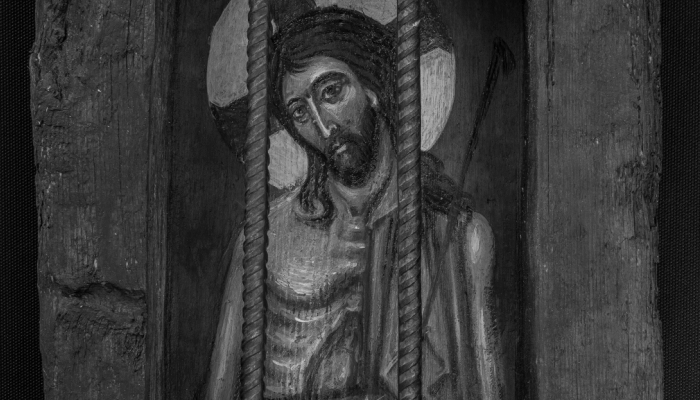«Всепрощающая любовь» как вредный метод воспитания семинаристов
28 октября 2019 митрополит Арсений (Стадницкий)
Из дневников митрополита Арсения (Стадницкого) (1862–1936).
Автор, будущий митрополит, был назначен инспектором Новгородской духовной семинарии 12 декабря 1895 года; 30 декабря пострижен в монашество, 31 декабря рукоположен в иеродиакона, 1 января 1896 года — в иеромонаха. В октябре 1896 года стал ректором Новгородской семинарии и настоятелем монастыря св. Антония Римлянина с возведением в сан архимандрита. С 10 января 1897 года — инспектор Московской духовной академии.
***
…Семинария извне произвела на меня своею грандиозностью отличное впечатление; а маленький, уютненький монастырек святого Антония — прямо отрадное впечатление. (..)
На первых же шагах своей деятельности я заметил значительную расшатанность, которая проявлялась во всем или, скорее, чувствовалась. Говорю это вовсе не по обыкновению вновь поступающего на какое-либо место охуждать своих предшественников, чтобы найти себе извинение в бездеятельности. Мне нечего пред собою лгать. Обстоятельства предшествующие способствовали этой расшатанности. Одною из главных причин были несогласия между начальствующими — между ректором Семинарии архимандритом Михаилом (Темнорусовым) и инспектором Семинарии П.Н. Спасским. Следствием этого было перемещение ректора Михаила в Могилевскую семинарию ректором же, а могилевского ректора архимандрита Аркадия в Новгород; инспектор же оставлен был только до нового 1896 года, когда он и поступил наблюдателем в Новгородскую же епархию. Новый ректор, смотря на себя только как на кратковременного гостя, почти не занимался делами Семинарии; равно как и инспектор, задумав уходить, не прилагал никакого попечения к воспитательной части, а между тем раньше был очень деятельным.
Между тем воспитанники, будучи вообще очень чутки к подобным обстоятельствам, стали допускать различные антидисциплинарные поступки, которые и оставались безнаказанными. Распущенность пошла скорыми шагами; началось открытое пьянство, стеклобитие у помощников инспектора и, наконец, в день отпуска на Рождество выбили окно у самого ректора…
Явился я сразу после рождественских каникул и был поражен своеволием и грубостию воспитанников. Сразу я ничего не предпринимал, а только присматривался, ходя повсюду. И вот по приезде своем, на другой же день, я натолкнулся на четырех пьяных воспитанников низших классов, на следующий день то же самое; во время занятий не было никакого порядка, так как каждый занимался, где ему угодно было, и потому не было возможности контролировать воспитанников; не были упорядочены посещения больницы, практиковалось частое самовольное упущение классов и т.п. Я никого не наказывал сначала, а делал только легкие замечания, выговоры, не спрашивая даже фамилии воспитанника, желая этим показать, что мне дорог порядок и противно нарушение его со стороны кого бы то ни было. Несмотря на это ученики почуяли, что конец их своеволию наступает, и потому решили «отстоять свои вольные права», постоять за себя и «проучить» на первых же порах нового инспектора. Ничего я и не подозревал, тем более что я ничем еще себя не успел обнаружить.
В субботу, 20-го января, после всенощной, в половине девятого, я был по обыкновению на ужине; заметил некоторое оживление среди воспитанников, но не придал этому значения и вышел даже до окончания ужина, оставив там дежурить помощника своего, о. Николая Васильевича Николаевского, двадцать пять лет состоящего в этой должности. Факт редкий и исключительный.
После ужина, по заведенному мною порядку, чтобы помощники являлись ко мне в это время для дачи отчета за текущий день, зашел ко мне о. Николай и со свойственным ему оригинальным выговором и тоном сказал: «Э, бурсачье. При конце вздумали было потопать ногами; но я их живо усмирил, пристыдив за их лошадиные привычки». И он, и я не придали этому особенного значения и начали разговаривать вообще о делах инспекционной части.
Вдруг, через полчаса, является встревоженный надзиратель и докладывает, что лампы в коридорах погашены и воспитанники безобразничают, разбивая окна и лампы. Быстро надел я рясу и выбежал в коридор. Темно везде; только из третьего этажа, где находятся спальни, доносятся страшные, дикие крики, шум, свист, звон стекол, разбитых бросаемыми поленьями, одним словом, — кромешный ад!
Я не потерялся, а бросился стремглав вперед в верхний этаж, крикнув при этом: «Дать огня!» — потому что я даже не знаком был еще хорошо с расположением внутренних ходов.
Подали мне огарок свечки, который, хотя слабым светом, осветил мне путь и представил моим глазам вверху темную массу волнующихся фигур. Быстро поднялся я вверх и закричал: «Разойтись!»
Моментально все рассеялись по спальням, где и притворялись спящими при посещении мною спален, а по выходе раздавались свистки, крики. Но я из коридора не уходил, хотя, по правде сказать, жутко было, тем более что со мною никого не было; бывший со мною сначала помощник о. Николай заблагорассудил уйти. До двух часов ночи все ходил, когда понемногу волнение несколько утихло.
Поутру на другой день Семинария, особенно верхний этаж, представляла вид точно после бомбардировки. С быстротою молнии распространилась сия пикантная новость по городу; пошли доносы и в Питер: мол, «инспектор своим деспотизмом, грубостию, жестокостию и т.п. вызвал этот бунт; прежде все было тихо, а теперь он начал гнуть…» Как мне было тяжело все это слышать! Такой сюрприз в первое же время административной деятельности! Где мне искать поддержки? Никого не знаешь, все остерегаются тебя… Ректор сам струсил.
Нашел я, правда, некоторое облегчение в сочувствии корпорации почти всех преподавателей. Я в это время был так расстроен, что как-то расплакался в учительской. Преподаватели светские утешали меня; не нашел я поддержки только там, откуда можно было ожидать, — от преподавателей-монахов. Их в это время было два — о. Евдоким (Мещерский) и о. Никон (Быстров). Почему же? Это — антониевцы. Не знаю, будет ли впоследствии понятен этот термин, но теперь он, кажется, для всех понятен. Поэтому я и не хочу оставаться долго на разъяснении этого оригинального типа, а скажу несколько слов.
«Антониевцы» получили свое название от Антония (Храповицкого), бывшего ректора Московской академии. Сам по себе этот человек, насколько я его знаю и по слухам, хороший, благожелательный, обладающий редкою способностию обаятельного влияния на других, особенно на молодежь; правда, в нем есть некоторые и недостатки… но это недостатки языка болтливого, а не сердца… Кроме этого, он, воодушевленный великою идеею монашества, старается во что бы то ни стало вербовать в монашество студентов, и преимущественно из светских, которые по различным причинам скорее поддаются этому. Многих из них соблазняет карьеризм… Они стараются затем во всем подражать ему, но, не имея силы ума его и других качеств, являются жалкими подражателями, утрируя его. Принципом своей деятельности они полагают так называемую «всепрощающую любовь», которая в их применении является полнейшею распущенностию. Этим они очень много зла приносят юношеству…
Отцы Евдоким и Никон, не имея никакого опыта педагогического и такта, и начали применять к воспитанникам эту всепрощающую любовь. И в чем же состояло это применение? В том, что они открыли к себе свободный доступ воспитанникам, начали с ними распивать целодневные чаи, беседовать с ними о различных сторонах семинарской жизни, критикуя ее, наставников, начальников, для чего доставляли материал сами воспитанники, всегда недовольные тем или другим наставником, поставившим кому-нибудь неудовлетворительный балл, конечно, не за незнание урока, — в этом никто не сознается, — а по жестокости, или инспекциею, которая выдумывает те или иные неосновательные правила, притесняет их и т.п. Сколько вреда приносит подобное «панибратство» с воспитанниками, особенно в неопытных руках.
Отец Евдоким имел еще особенное основание относиться ко мне недружелюбно и, так сказать, возбуждать учеников; он имел быть инспектором вместо меня, но обер-прокурор отклонил это назначение, будучи осведомлен о подобных действиях его бывшим инспектором Спасским. И вот меня назначили. А между тем ученики были уверены, что будет инспектором Евдоким, который сам же и поведал об этом ученикам, говоря, что настанут тогда блаженные времена… Впрочем, он все-таки умный человек, но еще не установившийся. А Никон — из инженеров, не знающий нашей школы, самолюбивый до крайности, невыдержанный и усвоивший одну внешнюю сторону антониевского режима… Оказывается, они знали о предполагавшемся «бунте» воспитанников, так как и сами, может быть, способствовали такому возбуждению их.
И вот, когда я в учительской, сильно потрясенный, удрученный, рассказывал учителям об этом бунте и даже заплакал, когда они начали вполне сердечно утешать меня, одни мои собратья не сказали мне ни слова утешения, а пылкий и невоздержанный Никон начал выговаривать мне, что я не умею обращаться с воспитанниками, что я стесняю их и тому подобные глупости. Преподаватели возмутились проповедуемыми им взглядами, выходящими будто бы из всепрощающей любви, а в сущности проповедующими полнейшую распущенность… Не хочу об этом и вспоминать…
Бунт этот сослужил мне такую же службу, как солдату на войне первая перестрелка. Я несколько успокоился и решил не отступать назад, а идти вперед твердо, постепенно, останавливая всякий непорядок и вводя или, правильнее, восстановляя добрые порядки, ослабленные было на время. Сколько в это время получал я анонимных писем и решил не придавать им никакого значения, и даже никому не показывал. Особенно строго я преследовал пьянство, которое действительно развито в Новгородской семинарии. Я, как южанин, не имел понятия, что на севере так пьют, и притом в школах. Меня поразило обилие пьяных на масляницу…
Мало-помалу порядки, заведенные мною, начали входить в силу, да и сам я почувствовал силу и имел удовольствие уже к концу занятий видеть это и наслаждаться некоторыми благотворными плодами трудов своих. А после каникул я уже свыкся с трудною инспекторскою должностью и с самого начала установил надлежащий порядок. Но недолго пришлось мне быть инспектором.
Если вам нравится наша работа — поддержите нас:
Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)