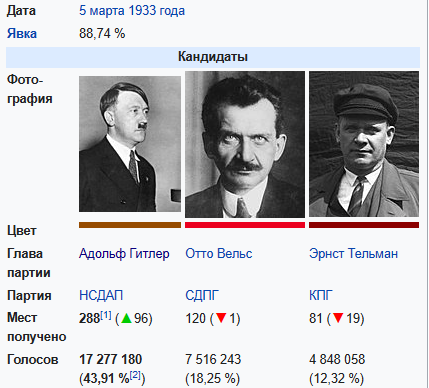Хорошо, что люди и за решеткой остаются людьми
5 декабря 2024 Анатолий Марченко
Анатолий Марченко (1938-1986) — диссидент, политзаключенный, писатель. Впервые попал в заключение по уголовной статье, по ошибке — за драку, в которой не участвовал. Бежал из лагеря, пытался перейти советско-иранскую границу, был пойман и осужден на шесть лет за измену Родине. После выхода на свободу написал книгу о советских лагерях «Мои показания» (1967), книга была распространена в самиздате и попала за границу, где была переведена на многие языки и опубликована. Позже написал еще две книги о своем пребывании в других лагерях и ссылках. В 1968 году Марченко выступил с открытым письмом против вторжения СССР в Чехословакию. В том же году осужден на год за якобы нарушение паспортного режима, в лагере ему добавили еще два года за «клевету на советский строй». Власти принуждали Марченко эмигрировать, но он отказался, продолжая правозащитную деятельность. Был отправлен на четыре года в ссылку. В 1981 году был осужден вновь за «антисоветскую пропаганду» на 10 лет колонии строгого режима и 5 лет ссылки. В 1986 году 117 дней держал голодовку с требованием освобождения всех политзаключенных СССР. Через несколько дней после прекращения голодовки умер в тюремной больнице.
Предлагаем вашему вниманию отрывки из книги Анатолия Марченко «Мои показания».
Я просидел в этой камере дней двадцать. Обжился, нашел себе местечко на верхних нарах. Кое с кем познакомился. Люди здесь все время менялись: одних забирали в этап, на их место пригоняли новых. Появление новых в камере — событие: других-то событий нет. Все отрываются от своих занятий, разглядывают новичков, окликают знакомых. Я не рассчитывал встретить здесь знакомого, но тоже, как и все, свешивался со своих нар — поглазеть.
Но вот однажды вводят новеньких, я смотрю, а среди них — Будровский. Толя Будровский, мой подельник, который закопал меня, чтобы выкарабкаться самому! Я откинулся на нары и смотрю из темноты, чтоб он не мог меня видеть. Войдя в камеру, Будровский быстро окинул взглядом нары зэков и прошел мимо меня. Дверь за новенькими закрыли и заперли. Тогда я слез с нар и сел внизу, глядя прямо на Будровского. Рожа у него была сытая, отъевшаяся. Наконец он увидел меня. Моментально переменился в лице. Забился в дальний угол камеры, следит за мной, но не подходит. Он, конечно, боялся, что я расскажу о его предательстве и тогда его изобьют до полусмерти, а могут и убить. В камере уголовники, а у них закон простой: продал товарища — получай свое!
Пришло время идти на оправку. Будровский не идет, отказывается. Я его успокоил:
— Иди, не бойся. Я никому не скажу, а поговорить с тобой мне хочется.
Вышли вместе. И тут мой подельник расплакался:
— Толик, прости меня. Я не мог, я боялся. Мне следователь сказал, что ты дал показания, какие надо, и если я не подтвержу их, значит, я виноватее тебя. Тогда все равно обоим вышка…
— Тебе что, показали эти «мои» показания?
— Нет, Толик, но все равно я не мог, следователь требовал, грозил расстрелом — сам знаешь, измена родине…
— Что ж от тебя требовали?
— Чтоб я сказал, что у тебя были враждебные намерения, что ты хотел предать…
— Дурак, что я мог предать?! А ты, значит, — самому спастись, а меня под дуло?
— Толик, но ведь не расстрел, шесть лет всего. Тебе все равно дали бы больше, ты старше, и мы же договорились, что ты большую часть вины возьмешь на себя. Толик, прости!..
— Что с тобой говорить?!
Вернулись в камеру. Когда принесли кипяток, я достал свои припасы — остаток сегодняшней пайки, щепотку сахару. Будровский подсел ко мне со своими. Он развернул пакет, и я ахнул: конфеты, печенье!
— Откуда у тебя?
— Еще из Ашхабада, из тюрьмы.
— А там откуда? Из каких денег?
— Мне следователь выписывал. Он говорил, у них есть фонд для подследственных, и выписывал на ларек два раза в месяц рублей по семь-восемь. А папиросы так приносили, даром. Я первое время не знал, покупал из выписанных.
— Что-то мне ни копейки не выписали…
— Так, Толик, он говорил, кто хорошо себя ведет.
— Ну-ну, за папиросы, за семь рублей на ларек!..
— Толик, прости! Возьми, ешь!
Мне стало противно смотреть на него, на его сытое, желтое, заплаканное лицо.
Через несколько дней Будровского взяли в этап куда-то на Вахш, на стройку ГЭС. А я остался.
Один сокамерник, тертый мужик Володя, объяснил мне, что меня здесь держат неправильно, что, раз я политический, меня не могут держать вместе с уголовниками. Очевидно, в суматохе перепутали, не разобрались. Но я помалкивал: боялся снова оказаться один. После пяти месяцев одиночки мне здесь было интересно с людьми. А когда эта грязная, мрачная камера мне надоела, я на проверке спросил дежурного офицера, долго ли меня здесь будут мариновать?
— Сколько надо, столько и будут. Жди.
— Но мне нельзя здесь находиться.
— Это почему? За что сидишь? Какая статья?
— А вы посмотрите мое дело, узнаете.
Офицер выскочил из камеры, а через несколько минут пришел еще с одним.
— Марченко, быстро с вещами. Как вы попали в эту камеру?
— Я себе камеру не выбирал.
Меня перевели в пустую камеру, а через два дня отправили этапом в Алма-Ату.
Райская жизнь кончилась, больше меня не сажали в отдельную клетку. Из Ташкента отправляли столько заключенных и сосланных, что было не до правил. Все клетки-купе вагонзаков были забиты до отказа. Восемь человек сидят внизу, четверо на втором этаже, двое лежат на самой верхотуре. Там, наверху, адская жара и духота, и они мокрые, как мыши, пот с них прямо капает. Впрочем, внизу тоже все взмокли.
Из Ташкента отправляли в ссылку «тунеядцев».
В одной из клеток едут женщины, у них немного просторнее, их всего тринадцать. Но у одной грудной ребенок. На весь вагон слышен плач младенца, женщина о чем-то просит конвоира, а он грубо отказывает. Женщина начинает рыдать, ее соседки кричат, ругаются с конвоиром. В это время в коридор входит начальник вагона, капитан:
— Кончай базар! Наручников захотелось?
Женщина, плача, объясняет: ребенок обмарал пеленки, а у нее всего две смены, она просит, чтоб ее вывели в уборную постирать.
— Ничего не случится, подождешь!
— Да у меня ребенка завернуть не во что, что же делать?
— Рожала — меня не спрашивала, — отвечает капитан и уходит.
Когда женщин стали водить на оправку, первой пошла мать ребенка. Она кое-как замыла пеленки в раковине и оставила их там. Следующая тоже постирала сколько успела, и тоже оставила. И следующая. Пока сводили всех женщин, пеленки были постираны и последняя захватила их в клетку. Там их и сушили.
Хорошо, что люди и за решеткой остаются людьми.