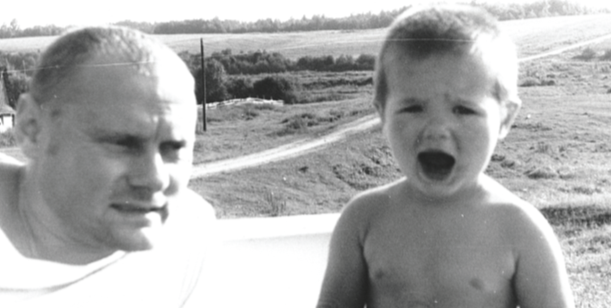Дар Валдая. Часть 9
1 мая 2025 Александр Зорин
Из книги «От крестин до похорон — один день» (2010 г.).
2 июня
10 дней как мы в деревне. Впятером, зимой родилась Полина. Неделя ушла на уборку дома, двора, на мелкий ремонт, на огород, который закладывал на сей раз по целине, рядом с домом. Вытаскал ведер двадцать кореньев и столько же камней.
Все дни вскляночку были заняты «бессмертным» бытом. Как только отсеялся, взялся за переводы долганской поэтессы. Примериваюсь, топчусь, приглядываюсь… Совершенно слепые подстрочники. Чтобы как-то войти в атмосферу долганской жизни, перечитываю В.Г. Тана, много писавшего о Чукотке. Надеюсь, что Таймыр от Чукотки удален не дальше, чем долганы от чукчей. И там, и там Север. Хоть пейзаж, хоть погоду подсмотреть, — чего нельзя извлечь из подстрочников. Переводы спасают нас. На полученный аванс мы накупили продуктов, смогли нанять машину и как-то, строжайше экономя, расходуем остатки аванса здесь. До осени, конечно, не дотянем, но можно одолжиться у отца Арсения, в полной уверенности, что в октябре получу 60% гонорара и расплачусь с ним.
Уже собираются в стайки местные и приезжие на каникулы ребятишки. Страшно видеть, как обнажен в них до крайности разрушительный инстинкт. Убить шмеля, разметать построенный из кубиков город, оторвать головы всем цветам.
«Всем-всем-всем!!!» Так и сказал внук Карташова Павли, когда я пожалел проступившие на припеках веснушки мать-и-мачехи. «Всем головы оторву. Всем-всем-всем! И тебя не боюсь!» — огрызнулся трехлетний малыш.
Мать прижила его, не помня с кем, когда Павля отбывал тюремный срок. С этого «приблудка» — Павля иначе его не называл — и началась в семье распря. Он стал лупить обеих баб — жену и дочь, запил, попал в больницу, потом снова на год в тюрьму, и теперь живет отдельно, бобылем.
В прошлом году он помогал мне пилить лес и забыл у меня свой топор. Так и не пришел за топором до осени. Я, уезжая, передал инструмент соседу, а у того топор сперли. Он должен был бы сказать Павле о пропаже и отдать свой. Но то ли позабыл, то ли не посчитал нужным. И вот теперь, встретив меня в магазине, Павля прохрипел: «Топор-топор-топор!» Искореженное лицо его перекосилось еще страшнее.
Как-то утром слышу: мирная беседа, мат-перемат, под моим окном. Его голос и пастуха Виктора. Значит, Павля в подпасках. Выношу ему обернутый в тряпицу новый топор.
— Здорово.
— Здорово-здорово, — отвечает скороговоркой, чуть заикаясь. И протягивает трехпалую лапу.
— Хоррроший топор, — оценил он, — пусть полежит под бревнышком, вечером заберу.
Вечером шагает впереди стада, ходко, прямиком к нашему дому. Как будто весь день только и жил этой новостью. Принял у меня сверток и зашагал дальше. Ни слова благодарности. «Жарко в лесу», — процедил сквозь зубы.
В прошлом году он надул меня на крупную сумму. Напилил леса вдвое меньше, чем было определено в лицензии, и мне пришлось снова выписывать лес, и снова поить тракториста, и самому валить недостающие стволы.
4 июня
Из Москвы пишут: Коля Г. ушел из семьи. Бросил двоих детей, жену и тещу, умирающую от рака. Начитался Розанова, написал произведение в духе этого декадентского мыслителя, влюбился в красивую женщину и — ушел. Бог ему судья. Но все, что теперь он сочинит, для меня обесценено. Потому что каждое слово подтверждается поступком, как денежная купюра, обеспеченная золотым запасом. Иначе слова обесцениваются, происходит девальвация слов.
Весной обокрали нашу сельскую библиотеку. Редкую по составу и количеству книг в такой глуши. Она меня крепко поддерживала. То Пришвина возьму перечитать, то Глеба Успенского, то что-то из непрочитанных и неизвестных; а Пушкина брал каждый год, у них здесь трехтомник, большая серия библиотеки поэта, с комментариями Томашевского и Цявловского, не вошедшими в свое время в полное академическое. Сталин якобы отсек, попеняв им: это вам не полное собрание комментариев к Пушкину, а полное собрание Пушкина. И словарь Ушакова я брал… Но словарь, кажется, на месте…
В краже библиотеки подозревают Евгению Матвеевну и меня. Милиция навела справки и убедилась, что я приехал двумя неделями позже ограбления. Но слух пущен и вряд ли теперь изменится. Е.М. доложила: «Манька Филькина грит, что Зорин носил книги мешками ко мне в сарай. Будто огородами, ночью».
Видя такой оборот дела, я попросил Е.М. подробно написать о краже. Все, что ей известно. А известно многое: милиции раскрыть хищение ничего не стоило. Дважды от дома Поляковых ночью отходила машина, тяжко груженная и крытая брезентом. Полдеревни задумалось — и чего это в город от Поляковых возят?.. Картошку они не ростят, клюквы столько на целом болоте не собрать, да они и не ходят за клюквой…
«А милиции невдомек, — продолжает Е.М., — 4112 наименований исчезло. Собрания сочинений Чехова, Дюма, Толстого, Пушкина, Проскурина… Я инвентаризацию делала, слезы ручьем лились. У Филькиных свет до утра горел, когда к ним милиция приезжала. Манька, нажрамшись, песни орала, я заснуть не могла. И Толька Поляков там гулял. Утром за самогонкой прибежал к Нюрке, опохмеляться». Сбивчиво, с оглядкой на окна, рассказывает мне заведующая библиотекой, верный коммунист Е.М.: «Замок на наружной двери трогали, я там жженые спички нашла. Но влезли через окно, раму приподняли, она на гвоздиках. Книги в первый раз взяли не все, куча на полу оставалась. Они ведь дважды наведывались. Я в первый же день вызвала милицию, а милиция приехала только после второго захода, после второй кражи. Одна книга на полу увалена — „Чаадаев“ Лебедева. В темноте обронили. Вы эту книгу в прошлом году брали, там ваши пометки… У Карташовых 22 мая с 12 часов дня стоял грузовик крытый, номер 38–42 ГБ. А меня, завбиблиотекой, следователь так и не вызвал. Странно, не правда ли, меня обокрали, я заявление писала, а мои показания оказывается не нужны».
Одна из мыслей, мною отчеркнутых в «Чаадаеве» и выписанных в тетрадь, была о любви к отечеству: «Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но есть нечто еще более прекрасное — это любовь к истине. Любовь к отечеству рождает героев, любовь к истине создает мудрецов, благодетелей человечества. Любовь к родине разделяет народы, воспитывает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур; любовь к истине распространяет свет знания, создает духовные наслаждения, приближает людей к Божеству. Не чрез родину, а чрез истину ведет путь на небо».
Зимой Е.М. приняла роды у дочери этой самой Маньки Филькиной. Дочь живет в Бойневе, не успели отвезти в город: поздно хватились. Кроме библиотечного, у Е.М. медицинское образование. Она не сразу согласилась — дело ответственное и подсудное в случае неудачного исхода. Муж плакал, да и то правда: до города не доехать. А Бойнево от Новой в пяти километрах, сани у порога. В роддоме, потом, молодой матери сказали, что роды приняты первоклассно. Это в домашних-то условиях.
Прошли роды, мать выписалась из больницы, ходит в библиотеку за книжками. И ни спасибо, ничего… «Привез мне дров ее муж, выгрузил, я ему говорю: „Чем возьмешь — водкой или деньгами?“ „Деньгами“, — отвечает. С тем и уехал».
Люди, не знающие Бога, выросшие на пайке социалистической морали, оголились до предела. Человеческое исчезло в них даже во внешности. Спившиеся калеки, обрубки с выломанными носами, раздувшиеся бабы в ватниках и в резине. Вот Пустова, бывшая бригадирша, а ныне завпочтой.
Женщина, до нее работавшая на этом месте, тоже читала письма, но хоть молчала. А при Пустовой вся переписка обсуждается деревней, как последние новости.
Долгая тень от березы ложится на луг. Время покоса, но косы отбились от рук.
Или проворные руки отбились от кос. Дудки взошли на излуке. Лог бузиною зарос.
Птичьего щебета грозди в темных кустах над водой. На захламленном погосте столбики со звездой.
Чудом спасенные липы в усадьбе — из прошлого взмах… Звероподобные типы в ватниках и сапогах.
Мерзость и запустение? Но и ромашковый дым в долгую пору цветения.
Было ли место святым?..
Опять напился Федя, заезжал в гости. В тавоте, в мазуте, в настежь распахнутых ватных штанах ввалился в избу. На ногах тапочки. Храбро прошагал в красный угол, под икону, шевельнул раз-другой языком, увидел спящую в кроватке Поленьку, чуть-чуть смутился. Вышли на крыльцо. Я думал, он опять за водкой, «заноздрило, дак…», нет, просто пообщаться, поговорить.
Старший сын его сидит в тюрьме. Отец не знает за что. От него нет писем, и «она» (жена) не пишет. Младшая, Галька, осенью пойдет в школу. Я подарил ей книжку в твердой обложке — сказки Андерсена. Смотрю, она в песке ею копает яму.
«Ты знаешь, что это такое?» — спрашиваю. «Не-ка», — отвечает девочка, пристукивая, книжкой, как лопатой, песочную горку. Но, наверное, я ее смутил. Отошла и свирепо втоптала в землю своим ботиком замешкавшегося в цветке шмеля.
Как-то я заглянул к Феде в дом. Раскрытая постель, серая тряпка, именуемая простынею. Федя, трезвый, лежит в мазутных штанах и телогрейке. Как выяснилось, он так и спит, в одежде. Раздевается раз в неделю — в банный день.
Из моей половины окно выходит на дальний бор с островерхими шапками, куда сейчас скатывается огненный, в маслянистом мареве, шар.
Вчера еще в окошко мое заглядывала береза. Ее молодые ветви свободно шумели и полоскались в теплом дождике. А когда нападал ветер, они вытягивались и летели мимо окна, трепеща серебряной чешуей листьев. В эти мгновения береза была похожа на нимфу Сирингу, убегающую от лесного Пана.
Но не лесной Пан догнал Сирингу. Догнала Федосья Федоровна, моя соседка. Земля под моим окном — ее. Пришла сегодня с лестницей и с тесаком и настригла молодых веток для банного веника.
— Далеко ходить не могу, — объяснила, — хромаю, вчера убилась об железину.
5 июня
Вчера снова прилетел в Новую Тофик — жаждет безотлагательного строительства.
6 июня
Каждое утро я сажаю Настю на раму своего «Прогресса», и мы катим к Валдайскому озеру. Вся поездка с купанием, переодеванием, собиранием шишек на обратном пути и любованием пейзажем с горы, где стоял дом помещика, занимает 40–45 минут.
Мелькают серые стволы березовой аллеи.
— Пап, а аллею дядя помещик посадил? А что с ним сделали? Его убили, да? А зачем? Его убили пистолетом?
Дома — общая утренняя молитва. Настя слушает Евангелие, повторяет прошения… Но как только прозвучит последнее Аминь, она срывается, как щенок с поводка, и дает волю своей резвости.
7 июня
Ложимся не раньше часу. Столько мелочных дел попадается под руку, что раньше и не получается. К тому же в 12.00 еле-еле слышен «Голос Америки». Я ловлю его, как редчайшую бабочку, осторожно удерживая на двух роликах — на волновом и усилителе громкости. Его бомбят, как опаснейший объект противника. В сплошном гуле разрывов различимы отдельные слова на русском языке. Сквозь сплошную ковровую бомбежку пробивается все же слабенький родничок, и мы с Танюшкой припадаем к нему после долгого трудового дня.
Нынче холодно, и я не взял Настеньку на озеро, о чем пожалел, растираясь вафельным полотенцем, как наждаком. Ледяная вода не дает остыть человеческой теплохладности.
На обратном пути заехал в библиотеку за Ушаковым — четырехтомным словарем. Он потрепанный, потому его и не сперли. Е.М. ни о чем, кроме кражи, говорить не может. Прошмыгнула на почту Панька-парторг, зыркнула в мою сторону, не поздоровалась. Прошла, высоко подняв голову, медсестра. Тоже ни звука на мое «здравствуйте». Я ведь у них на подозрении.
Панька — депутат местного совета Прасковья Филипповна Куприна — успокаивает Евгению Матвеевну:
— И чего ты ревешь! Подумаешь, книги! Жопу ими подтереть, твоими книгами!
Ревет Е.М. не из-за книг, а от обиды, что ее в этом происшествии не заметили, даже не вызвали в прокуратуру…
Более двадцати лет она работает библиотекарем. И по долгу службы стерилизует вверенный ей участок идеологического фронта.
— Ежеквартально я списываю до 300-400 книг по разным причинам, — говорит она.
— По каким?
— По ветхости, по старости и еще…
Я смотрю на нее с любопытством, догадываясь, по каким еще…
— Об этом не имею права говорить.
— О том, что изымаете книги, которые вчера хвалили и предлагали читателям? Об этом, да?
— Там поумней люди сидят, откуда списки приходят. Знают, что делают. А я мелкая сошка.
Однако «мелкая сошка» знает, кому служит и кому безоговорочно подчиняется.
Операция по уничтожению книг простая. Вынуть карточку из каталога и из книжки, сжечь, а саму книжку в кучу. Раз в квартал отвезти кучу в районный отдел культуры. И все, с нее ответственность снята. И не прочтет какой-нибудь Ванька Жуков ни Солженицына, ни Астафьева, ни Владимира Максимова, ни Виктора Некрасова.
Но в отделе культуры научились из высочайших предписаний извлекать прибыль. Книги эти идут на черный рынок, как и те, что отбираются при обысках. Тофик мне эти фокусы объяснил. Черного рынка в Новгороде нет — по той причине, что быстро обнаружились бы секреты его пополнения. Книги отправляются в Москву, в Питер, в крупные города, где их за большие деньги покупают любознательные книгочеи, вроде отца Арсения.
Настя любит общество. Но общество местных детишек опасно — никто им не прививал культурных навыков. А дикарские — у них в крови.
— Настенька, ты хочешь быть взрослой девочкой?
— Хочу.
— Для этого ты должна научиться играть сама с собой, играть одна. У тебя много игрушек и книжек. Придут подружки — хорошо. Не придут — тоже хорошо, и ты не плачь, не горюй по ним.
Комары — хитрющие. Нападают в основном с тыла. Зудит, зудит такой налетчик над головой и сядет не на лоб или руки, а непременно сзади на шею, на плечо, на босые ноги под столом.
С обеда пришел Сергей Волов пилить дрова, остатки сеней, которые мы раскатали в прошлом году. Я давно заметил, что он самый добросовестный человек в деревне. Пилим бревно. Попадается гвоздь. Если поставить пилу до гвоздя, полено получится коротким: коротышей придется больше пилить, если после — длинноватым, для печки непригодным. Он никогда не поставит после.
— Иваныч, давай я тебя постригу, у меня машинка своя — хошь под бокс, хошь бобриком, хошь совсем наголо.
Мы с Настей выбрали наголо. У нее ладная головенка, формы лесного ореха.
8 июня
Ветреный день. Березка под моим окном протягивает руки в полете. Не все, однако, обрубила ей Федосья Федоровна. По широкому полю перед лесом проходят большие тени от облаков, пролетают тени поменьше. А то вдруг все поле затмится на минуту, и вновь наступает медленное просветление.
Настеньке скучно одной. Она преображается, когда Таня или я оторвемся от своих занятий, пойдем с нею за щавелем в поле, или поиграем в прятки, или прочитаем сказку. Нет времени заниматься детьми. Оставлена единственная возможность — зарабатывать им и себе на хлеб.
9 июня
Встаю в семь, а за переводы сажусь не раньше двенадцати. Столько дел надо разгрести по дороге к письменному столу. Наконец посадил крыжовник, привезенный из Москвы. Две недели он стоял в дерне, укоряя меня своим увядающим видом. Загодя вырыл яму, ей надо обветриться. Торф, навоз… перемешал хорошенько, обильно полил. Господи, помоги укорениться этому кустику, чтобы он на будущий год порадовал нас ягодами. На рынке они дорогие и нам, Сам знаешь, не по карману… Поливка далеко: колодец метров за двести, пруд еще дальше. Для огорода вода из колодца слишком студеная, а корыта, чтобы заранее наполнять, у меня нет.
10 июня
Дети со всей деревни — под нашими окнами. Визжат на качелях, грохочут на терраске, возятся, а чаще дерутся. Основные развлечения — дрательные, щипательные, ругательные. Настя без остатка растворяется в этом компаньонском бульоне. Уже заметны у нее новые интонации, словечки, ужимки.
Тут же Юрка Карташов, что откручивал головы цветкам мать-и-мачехи. И великовозрастная Наташа.
— Наташ, у тебя нет платка нос вытереть?
— Нет, — ответила Наташа и проворно втянула носом все, что разливалось под ним.
14 июня
Троица. День рождения Насти. Были в городе. Причащались. Вела себя в храме прилично, бесцеремонно заглядывая снизу в лица женщин, когда те кладут земные поклоны. На кладбище, что рядом, народу гораздо больше, чем в храме. Поминают усопших. Пьяные валяются и на могилах, и между могилами. А утром в автобусе две старушки с березовыми букетами.
Сели в Терехове. Ну, думаю, хоть в Терехове нашлись православные, вспомнили про храм. Ни одного человека из деревень по нашему маршруту за пять лет я в храме не видел. А тут — едут. Другие две попросили у них веточек, и те охотно поделились. Но одна сошла в Шуе, другая в пригороде, а две, о которых хорошо подумал, направились в противоположную от храма сторону. А зачем о них плохо думать! Церковь давно скомпрометирована в их глазах. Безбожная власть потрудилась на славу. Вот они и бегут от храма подальше. Наверняка где-нибудь собираются на дому, поют праздничный тропарь. В автобусе, на переднем месте, где пышет теплом от мотора, пригрелась старушка, приговаривает: «У, лежаночка! У, хороша!»
Чуть было не отменили дневной рейс. Многим пришлось бы ночевать на станции. Но — подали автобус с опозданием на три часа. Водитель, развлечения ради, открыл одну дверь. Все равно ведь обилечивать будет, когда люди рассядутся. Автобус не с нашей линии, и водитель чужой. Смотрит в зеркальце, ухмыляясь, как люди давятся: молодежь впереди, автобус берут, как винный прилавок. Старики пережидают, когда молодежь рассядется. Мы с Настей тоже не торопимся. Она притихла, как воробышек, не понимает, что происходит.
Вспомнилось мне одно дорожное впечатление. Автобус отошел из Новой в грозу, которая упала на деревню, как ночь. За стеной дождя ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. В Ужине села бабушка. Та самая, к которой я зашел однажды, накануне дня памяти ее «товаришша». Пьяный тракторист задел край ее сарая (сарай здесь называют конюшней) и разворотил ветхое строение. «Тридцать лет конюшня стоит. Пока старик был жив, никто не трогал. Помер, и начался разбой, — жалуется она шоферу. — Милай, ты скажи мне, где повертка на Ящурово. Теперь дороги новые, я по старой ходила. А теперь не знаю». «Зачем тебе, бабка, в Ящурово в такую непогоду?» — осведомляется водитель. «Я к нарушителю еду, который мою конюшню нарушил. Что ж он думает? Конюшня мне нужна. Как без конюшни! Дровишки бросить, куренка посадить. Будет он строить, аль нет? Я в суд подам». У поворота на Ящурово бабуля сошла. Дождь еле стихнул, но еще лупил по крыше автобуса с железной силой.
На переднем сидении громоздится тулово Толи Полякова. Автобус почти пустой, слышно, как он вполголоса рассказывает соседу: «Дура бабка, куда ее понесло… Этот, который сломал, два ящика вина купил нашей бригаде: сделаете, мужики? Сделаем! Сняли нас специально на день. Мы вино выжрали и расползлись. А щас — некогда уже. Щас — на покосе».
Придет бабуля к нарушителю, поговорит с отцом, матерью, если застанет… Да ведь нарушитель-то исправился, искупил грех… двумя ящиками вина.
16 июня
Набежавшие холода уходят. Небо завалено облаками. Маленькая Света про него сказала: «Небо как будто распахано».
У озера море цветов. Луг набирает красоту и силу. Выглядывают фонарики фиалок. Настенька восторгается. Все цветы хочет подарить бабушке.
Поляков с прошлого года задолжал нам 10 рублей. Таня встретила его в магазине, отвернулся. Меня тоже избегает, прячет глаза. Не дать денег, когда просят, — нехорошо. А дать — врага наживешь.
Выберутся счастливые полчаса, мы с Настенькой летаем по окрестностям на велике. Она водружается на раме, как брюлловская наездница. Вдруг на дороге заяц. Копошится, что-то вынюхивает. Подпустил нас метров на двадцать. Сделал стойку и — деру. Остановился, соображая, что к чему. Видит, погоня, и еще пуще — пулей! Где ж нам угнаться.
Великая книга Марка Поповского «Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга». Париж. 1979 г. Из библиотеки отца Арсения. Довольно потрепанная, а значит, многими прочитанная: молодыми людьми, которые в приходе составляют уже видимое, уже заметное ядро. Одна такая книга способна перевернуть сознание советского человека, особенно если оно еще не очень замусорено.
Это совершенно новый подход к личности святого в русской житийной литературе. Жития, собранные в Четьих Минеях, создавались по определенному канону. Они копировали традиционный тип святости, из которого едва-едва проглядывала личность святого. Малосодержательные исторически, они не являются документом. Анонимные авторы вовсе и не задавались этой целью. Георгий Федотов считал, что Россия промолчала своих святых, что «безмолвная святая Русь, в своей оторванности от источников словесной культуры древности, не сумела поведать нам о самом главном — о своем религиозном опыте».
А между тем «Жития» были популярны в народе. Их читали куда охотнее, чем Евангелие. Евангелие нуждалось в объяснении, хотя бы во время церковной проповеди. Но мало кто из священников был на это способен, а позже мешала и формальная процедура: каждую проповедь надобно было согласовывать с архиереем. Короче, народ не знал Евангелия и ответы на многие вероучительные вопросы пытался найти в доступной житийной литературе. Он обращался к Житиям за живым примером, который, увы, существовал вне исторического контекста. Контекст был ни к чему — русский крестьянин жил не в истории, а в природе, в чередовании времен года.
Мифологическому сознанию хронология не нужна. На этом уровне миф равнозначен иконе. Отличие жития Войно-Ясенецкого именно в том, что здесь дана впечатляюще и достоверно панорама советской эпохи. Архиепископ Лука предстает перед нами в развитии, в динамике внутренних и внешних событий. Некоторые противоречия, свойственные ему, не разрушают цельности натуры. Марк Поповский открыл новое видение святого, понимание святости на том человеческом уровне, который ранее в России был непостижим. Это видение куда ближе, чем житийный канон, подводит к источнику святости — к Иисусу Христу.
Вспоминается тютчевское, категоричное «Умом Россию не понять». Марк Поповский делает попытку понять и тем самым опровергает догматическую установку. Удается это потому, что на примере универсальной личности, вобравшей в себя научный и религиозный опыт, исследователь не отделяет веру от понимания. Христос говорил: «Исследуйте Писания, ибо… они свидетельствуют о Мне» (Ин.5:39). То есть Христос призывал к пониманию священных текстов, говоря современным языком, призывал к научному методу исследования. Метод Марка Поповского утверждает: вера немыслима без понимания. Кстати говоря, к самому автору вера пришла через понимание, через скрупулезный анализ жизни своего героя. Он начал писать книгу, будучи человеком неверующим. А консультировался по религиозным вопросам у отца Александра Меня. Носил ему каждую написанную главу. И вот, прочитав очередную, четвертую, отец Александр мягко пошутил: «Эволюционируете, сударь».
Продолжение следует
Фото автора