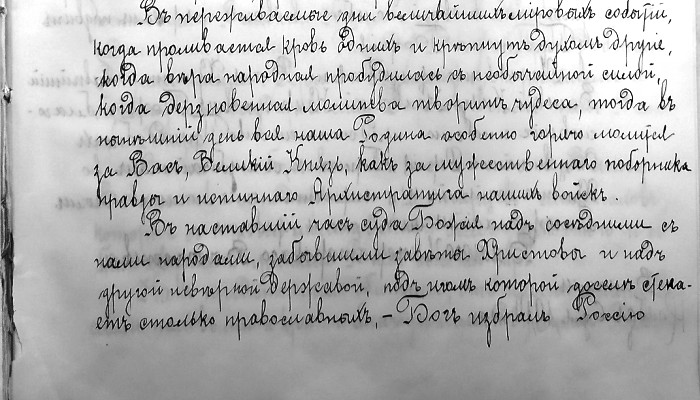Не казнь, но мысль. Но слово. К 15-летию со дня смерти Сталина
23 августа 2022 Лидия Чуковская
В наши дни один за другим следуют судебные процессы: под разными предлогами — открыто, прикрыто и полуприкрыто — судят слово, устное и письменное; судят книги, написанные дома и напечатанные за границей; судят журнал, напечатанный на родине, но не в типографии; судят сборник документов, изобличающих беззаконие суда; судят выкрик на площади в защиту арестованных. Слово подвергают гонению как бы для того, чтобы еще раз подтвердить старую истину, полюбившуюся Льву Толстому: «Слово — это поступок». Наверное, слово и в самом деле поступок, и притом сокрушительный, если за него дают годы тюрьмы и лагеря, если целыми годами, а то и десятилетиями, не в силах пробиться в свет, к читателю, великая поэзия и великая проза — романы, поэмы, стихи, повести, — насущно необходимые каждому. Я бы сказала: необходимые как хлеб, но на самом деле своей пронзительной правдой они нужнее, чем хлеб. И быть может, потому, что слово истины не в силах прозвучать, сделаться книгой, а через книгу и душой человеческой, что оно насильственно загнано внутрь, остановлено — быть может, потому с такой остротой ощущаешь искусственность, фальшивость, натянутость иных напечатанных, легко достигающих читателя слов.
Попалось мне недавно в журнале одно маленькое стихотворение. Оно сильно задело меня. Незначительное само по себе, оно выражает строй мыслей и чувств, весьма распространенных сегодня, и при этом глубоко ложных.
Начинается оно тревожащим сердце вопросом:
Несчетный счет минувших дней
Неужто не оплачен? —
а кончается утешающим выводом:
И он с лихвой, тот длинный счет,
Оплачен и оплакан.
Утешительность вывода — она-то и задела меня. Меньше всего нужны нам сейчас утешения и больше всего разбор прошлого, бередящий память и совесть… Если поверить автору, в нашем нравственном балансе, после всего пережитого все, слава Богу, обстоит благополучно: концы сведены с концами. О чем же еще говорить?
А говорить есть о чем. Отношением к сталинскому периоду нашей истории, вцепившемуся когтями в наше настоящее, определяется сейчас человеческое достоинство писателя и плодотворность его работы.
Бывают счета неотвратимые — и в то же время неоплатные. Писать об оплаченном счете, когда речь явно идет о нашем недавнем прошлом, — кощунство. По какому это прейскуранту могут быть оплачены Норильск и Потьма, Караганда и Магадан, подвалы Лубянки и Шпалерной? Как и чем оплатить муки и гибель каждого из невинных — а их были миллионы! — почем с головы? И кто имеет право сказать: счет оплачен? Пожалуй, уж лучше бы нам не браться за счеты! Оплатить такой счет — это вообще никому не под силу по той простой причине, что человечество не научилось воскрешать мертвых.
А кто оплатит обманутую веру людей в заветные пять слов: «У нас зря не посадят»? веру: если Иваны Денисовичи сидят за решеткой — стало быть, они в самом деле враги. Надо сознаться, великолепно работала в прошлом машина провокации — радио, собрания, газеты, — столь четко и бесперебойно, что, случалось, даже честные люди становились ожесточенными гонителями невинных. Жены отрекались от мужей, дети от отцов, друзья от лучших товарищей. Ведь они, эти обманутые, тоже в своем роде жертвы… Жертвы организованной лжи. Не применимы ли к ним слова, сказанные о других временах:
Что ж, мученики догмата,
Вы тоже — жертвы века.
Чем же оплатить массовое, организованное душевредительство, разврат пера, распутство слова? Казалось бы, если и можно, то только одним: полнотой, откровенностью правды. Но правда оборвана на полуслове, сталинские палачества вновь искусно прикрываются завесой тумана. Она плотнеет у нас на глазах.
Жажда самой простой, элементарной справедливости осталась неутоленной. Вдовам погибших выданы справки, что мужья их были арестованы понапрасну и посмертно реабилитированы за отсутствием состава преступления. Хорошо. Такие же справки — об отсутствии состава — выданы тем из заключенных, кому посчастливилось уцелеть. Отлично. Они вернулись. Но где же те, кто был причиной всего пережитого? Те, кто изобрел составы преступлений для миллионов людей? Те, кто фабриковал одну за другой фантастические повести под названием «следственное дело»? Те, кто давал приказ чернить осужденных в газетах? Кто эти люди, где они и чем заняты сегодня? Кто, когда, где подсчитал их преступления, совершавшиеся обеспеченно, спокойно, методически — изо дня в день, из года в год? И им, этим преступникам, какие и кем выданы справки?
Видимо — никем, никакие, иначе не случилось бы, что изданием стихов ведает человек, повинный в гибели поэтов; что на торжественном заседании в президиуме красуется писатель, который писал преимущественно доносы; что пенсию за труды праведные получает седовласый, почтенный старец, в прошлом — губитель Вавилова и Мейерхольда… Туман, туман!
Счет оплакан, говорится в стихотворении. Правда, пролились океаны слез. Но лились они украдкой, в подушки… День железнодорожника, День летчика, День танкиста — а где же День Траура по невинно замученным? Где братские могилы, памятники с именами погибших, кладбища, куда родные и друзья могут в поминальный день приходить открыто плакать с венками и букетами цветов? Где, наконец, списки тех, кто заказывал доносы, тех, кто исполнял эти заказы, тех, кто… но довольно. Над могилами уместны тишина и скорбь.
Нет, не об отмщении речь, я не предлагаю зуб за зуб. Месть не прельщает меня. Я не об уголовном, а об общественном суде говорю. Потому что хотя доносчики, палачи, провокаторы вполне заслужили казнь, но народ наш не заслужил, чтобы его питали казнями.
Пусть из гибели невинных вырастет не новая казнь, а ясная мысль. Точное слово.
Я хочу, чтобы винтик за винтиком была исследована машина, которая превращала полного жизни, цветущего деятельностью человека в холодный труп. Чтобы ей был вынесен приговор. Во весь голос. Не перечеркнуть надо счет, поставив на нем успокоительный штемпель «уплачено», а распутать клубок причин и следствий, серьезно и тщательно, петля за петлей, его разобрать… Миллионы крестьянских семей, тружеников, выгнанных на гибель, на Север, под рубриками «кулаки» и «подкулачники». Миллионы горожан, отправленных в тюрьмы, в лагеря, а иногда и прямо на тот свет под рубриками «шпионы», «диверсанты», «вредители». Целые народы, обвиненные в измене и выгнанные с родных мест на чужбину.
Что привело нас к этой небывалой беде? К этой совершенной беззащитности людей перед набросившейся на них машиной? К этому невиданному в истории слиянию, сплаву, сращению органов государственной безопасности (ежеминутно, денно и нощно, нарушавших закон) с органами прокуратуры, существующей, чтобы блюсти закон (и угодливо ослепшей на целые годы), — и, наконец, с газетами, призванными защищать справедливость, но вместо этого планомерно, механизированно, однообразно извергавшими клевету на гонимых — миллионы миллионов лживых слов о ныне разоблаченных матерых подлых врагах народа, продавшихся иностранным разведкам? Когда и как оно совершилось, это соединение, несомненно самое опасное изо всех химических соединений, ведомых ученым? Почему оно стало возможным? Тут огромная работа для историка, для философа, для социолога. А прежде всего для писателя. Это главная сегодняшняя работа — и притом безотлагательная. Срочная. Надо звать людей, старых и молодых, на смелый труд осознания прошедшего, тогда и пути в будущее станут ясней. И нынешние суды над словом не состоялись бы, если бы эта работа оказалась проделанной вовремя.
Убийство правдивого слова — оно ведь тоже идет оттуда, из сталинских окаянных времен. И было одним из самых черных злодейств, совершаемых десятилетиями. Утрата права на самостоятельную мысль затворила в сталинские времена дверь для сомнения, вопроса, вопля тревоги и отворила ее для самоуверенной, себя не стыдящейся многотиражной и многорупорной лжи. Ежечасно повторяемая ложь мешала людям узнать, что творится в их родной стране с их согражданами, — одни не знали простодушно, по наивности, другие оттого, что им очень уж не хотелось знать. Тот же, кто знал или догадывался, тот обречен был молчать под страхом завтрашней гибели — не каких-нибудь там неприятностей по службе, безработицы или нужды, а обыкновенного физического истребления.
Вот какой великий почет был в ту пору оказан слову: за него убивали.
…На могилах погибших, сказала я, должна вырасти не новая казнь, не казнь их губителей, а ясная мысль. Какая же? Может быть, эта?
Уж раз мы выжили…
Ну что ж,
Судите, виноваты!
Все наше: истина и ложь,
Победы и утраты,
И срам, и горечь, и почет,
И мрак, и свет из мрака…
Нет, не эта. Рассуждение соблазнительное, но принять его нельзя. Оно служит запутыванию клубка, а не попытке его распутать. Истина и ложь не близнецы, и никому не удавалось быть мраком и светом зараз. В каждом конкретном жизненном положении кто-то светил, а кто-то гасил свет. И хуже: кто-то был злодеем, а кто-то жертвой.
Мы были молоды, горды,
А молодость — из стали,
И не было такой беды,
Чтоб мы не устояли,
И не было такой войны,
Чтоб мы не победили.
И нет теперь такой вины,
Чтоб нам не предъявили.
Здесь две неправды. Во-первых, такая беда, перед которой мы не устояли и от которой не спасли страну, была. Имя ей — сталинщина. Это раз. Что же касается вин, которые теперь будто бы кто-то, где-то, кому-то предъявляет, то хотелось бы знать: кто, где и кому? О винах, предъявленных сегодня нашему вчера, что-то не слыхать… Приняли, подхватили:
Да, все, что с нами было, —
Было!
И глубже ни шагу.
А между тем изо всего, что «с нами — было», естественно, растет ясная простая мысль. Она известна всем с изначальных времен, но нам придется воспринять и усвоить ее заново. Столетие назад Герцен изо дня в день повторял ее в «Колоколе»: без свободного слова нет свободных людей, без независимого слова нет могучей, способной к внутренним преобразованиям страны. «Громкая, открытая речь одна может удовлетворить человека», — писал Герцен. «Только выговоренное убеждение свято», — писал Огарев. Молчание же для них — синоним рабства, «склонение головы». Герцен писал о «сообщничестве молчанием». «Немота поддерживает деспотизм».
Судебные процессы последних лет — и последних месяцев — вызвали среди людей разных возрастов, разных профессий громкий отпор. В нетерпимости к сегодняшним нарушениям закона сказывается наболевшее негодование людей против самих себя, какими они были вчера, и против вчерашних тисков. За молодыми плечами нынешних подсудимых, нам, старшим, видятся вереницы теней. За строчками рукописи, достойной печати и не идущей в печать, нам мерещатся лица писателей, не доживших до превращения своих рукописей в книги. А за сегодняшними газетными статьями — те, вчерашние, улюлюкающие вестники казней.
«Освобождение слова от цензуры» — таков был один из девизов «Колокола». В последний раз «Колокол» вышел сто лет назад — в 1868 году. Столетие! С тех пор цензура сделалась менее зримой, но всепроникающей. Она располагает десятками способов, не прибегая к красному карандашу, заживо схоронить неугодную рукопись.
Пусть же сбудется освобождение слова от всех кандалов, как бы они ни назывались. Пусть сгинет немота — она всегда поддерживала деспотизм.
А память пусть останется вечной, неистребимой, вопреки будто бы оплаченному счету. Память — драгоценное сокровище человека, без нее не может быть ни совести, ни чести, ни работы ума. Большой поэт — сам воплощенная память. Приведу строки того поэта, который не пожелал расстаться с памятью не только при жизни, но и за порогом смерти:
Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных марусь,
Забыть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.
Память о прошлом — надежный ключ к настоящему. Перечеркнуть счет, дать прошедшему зарасти бурьяном путаницы, недомолвок, недомыслей? Никогда!
Впрочем, если бы нам и изменила память, сегодняшние суды над словом и сухой треск газетных статей донесли бы до нас знакомый запах прошлого угара.
Но сегодня — это сегодня, не вчера. «Сообщничество молчанием» кончилось.
Лидия Чуковская
Февраль 1968 года
Если вам нравится наша работа — поддержите нас:
Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)
ЮMoney: 410013762179717
Или с помощью этой формы, вписав любую сумму: