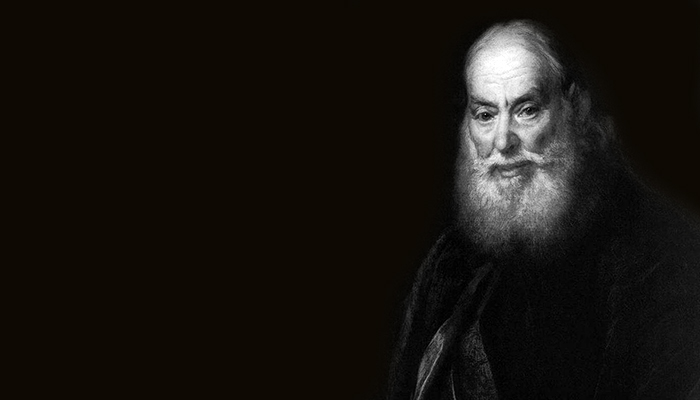Неудавшийся дебют
23 мая 2021 Ирина Орлова
Когда только начался Великий пост, и солнце стало по-весеннему припекать, так что уже можно было ходить без шарфа и шапки, вдыхая пьянящий аромат пробуждающейся природы, Олег впервые понял свою ошибку. Тяжкая тоска по прошлому охватила все его существо. Он вспоминал, как пришел сюда, в этот монастырь, как долгое время робел перед братией, казался себе таким маленьким и ушастым в обществе здоровенных бородатых мужиков. Хотя встретили его хорошо, куда еще лучше — игумен даже расцеловал, однако Олег так и не смог избавиться от напряженной скованности и неуверенности в себе. Выполняя то или иное послушание, он всегда внимательно следил за собой, чтобы ненароком не вызвать чьего-либо недовольства, выговора или упрека, с буквальной точностью исполняя приказанное. А уж трудиться-то он любил: с ожесточением мыл котлы в трапезной, тер полы, рубил дрова, чистил снег, не гнушался и самой грязной работы.
Это было наслаждение — умучившись до седьмого пота, так что переставали слушаться онемевшие конечности, с аппетитом поглощать какие-нибудь пустые щи из мерзлой картошки с плохо пропеченным хлебом и ощущать себя самым счастливым человеком на свете. Засыпая ненадолго на своем жестком тюфячке, с первыми ударами колокола спешить в церковь, поеживаясь от утреннего морозца, и там, благословившись и надев так нравившийся ему блестящий стихарь, возгласить звонким юношеским голосом, взлетавшим под купол храма, первые строки псалма. Это казалось пределом мечтаний!
Ему нравились отцы, нравилось, как они в отсутствие игумена слегка расслаблялись в алтаре, рассаживаясь на кафизмах по стульчикам и тихо беседуя. От утомления кто-то вытягивал ноги, кто-то становился на колени, опираясь телом о табурет. Олегу представлялись это лежбищем тюленей. Он прислушивался к их разговорам. Не всегда там звучали одни духовные темы. Иногда проскакивало что-то о марках вин или автомобилей. «Чем больше на бутылке кагора куполов, тем отвратительней ее содержимое». Такие речи смешили и трогали. Вспоминались слова из катехизиса о соединении природ во Христе — «неслитно, нераздельно, неизменно, неразлучно». Хорошо, когда люди, соединяясь со Христом, приобщаясь Божеству, не теряют в себе человеческое.
Олега тяготила благочестивая искусственность, стилизация под шаблон, пусть достойный и праведный, но не усвоенный лично, когда люди, как механические куклы, монотонными голосами транслируют цитаты из святых отцов. Борьба со страстями, отказ от своей воли иногда приводит не только к освобождению от грехов, но и к угасанию личных эмоций. Такие верующие превращаются в автоматы, произносят не свои слова, исповедуют не свои убеждения, да и саму жизнь живут не свою, а фальшивую, лживо-патериковую. Нередко Олег вспоминал прочитанный где-то афоризм: «Мы хотим казаться правильными, вместо того, чтобы быть искренними». И он радовался, что у их монастырских священников такого нет, они были живыми.
Прошло два года. Олег стал постепенно свыкаться со своим положением. Он принялся уже смелее смотреть людям в глаза и даже отвечать на дружеские толчки, получаемые от наиболее бойких из братии, уже не боясь, как раньше, что каждый встречный разгадает его заветную тайну, из-за которой, не скрой он ее при поступлении, не видать бы ему монастыря, как собственных ушей. Он же был парень упрямый, своевольный, и если взбрело ему в голову подражать древним подвижникам, послужить Господу именно в иноческом чине, то и сами силы ада не могли бы воспрепятствовать его намерению. Совесть, правда, слабо попискивала, не желая, чтобы с ней шли на компромиссы, утверждая, что малейшая примесь лжи способна осквернить самое благородное дело, однако упоение от достигнутой цели и новые впечатления отодвигали эти внушения на периферию сознания, как когда-то строгие родительские упреки.
Олег видел, что игумен им доволен, и уже шли разговоры, чтобы на Преподобного одеть Олега в подрясник, а дальше… дальше мысль по-детски неслась с неудержимой скоростью к таким высотам, от которых захватывало дух. Вот его постригают, рукополагают во иеродиакона. Затем — в иеромонаха. Будет он какой-нибудь отец Пимен… нет, лучше Пафнутий… Вот он стоит на амвоне с крестом и смиренно произносит проповедь. Народ в потрясении внимает «глаголам вечной жизни». Люди приходят к нему за благословением и советом. А вот он перед разъяренной толпой смело исповедует Христа, принимая мученический венец. А вот он, тихий, изнемогший от поста отшельник, возносит в глуши лесной свою молитву за мир…
— Олег! Олежка! Ты раствор с огня снял? Ты что, оглох? — пожилой инок-иконописец тряс за плечо замечтавшегося послушника. Тот нехотя сдвинул с плиты котел с раствором — им потом будут левкасить доски — и вышел на крыльцо.
Был один из тех одуряюще скучных вечеров, когда кажется, что время совсем прекратило свой ход. Черные ветви деревьев стояли не шелохнувшись, словно замерев в безмолвном молитвенном порыве, в жажде побыстрей украситься щегольской зеленой листвой. Серое небо нависало над головой. Темнели проталины, да тощий серый котяра пробирался, крадучись, на промысел, чая разнообразить свой постный рацион какой-нибудь зазевавшейся живностью, а то и попросту своровать где-нибудь кусок. Однако возившийся неподалеку десятилетний монастырский воспитанник Максимка помешал его намерению: схватив упирающегося кота, принялся запихивать его в какой-то ящик.
— Чего это у тебя? — спросил Олег. Максимка поднял раскрасневшееся лицо.
— Это для кота газовая камера.
— Газовая камера… Болтаешься тут без дела, лучше бы уроками занимался.
Постепенно местная жизнь начала приедаться. Несмотря на то, что у Олега с детства лежало сердце к обществу иерархичному, где младшие подчиняются старшим, а старшие заботятся о младших, где все бытие основано на совместном преодолении трудностей и терпении лишений, но стоило представить, что сегодня, завтра, всегда будет одно и то же монастырское каре, внутри которого он уже изучил каждый камушек; одна и та же траектория движения: келлия — храм — трапезная — послушания; одни и те же лица, разговоры, и сразу вся восторженность таяла, словно кадильный дым. Он чувствовал, что в монастыре относятся к людям, как к шахматным фигуркам. Ежедневно их все надо расположить на доске в определенной позиции, чтобы каждая оказалась максимально функциональна, для общего блага, разумеется.
Человеку требуется зона его личной ответственности, где он сам принимает решения и проявляет инициативу. В монастыре возможностей для этого нет, все по послушанию, прикажут — и исполняй. Порой ощущаешь себя хорошо отлаженной шестеренкой какого-то гигантского механизма. Но с другой стороны, в миру много ли свободных усилий человека приводят к полезному результату? Не тратит ли он часто время впустую, не час, не два, а целые дни? Не создала ли цивилизация массу бессмысленных профессий? А у монахов ежедневно выходит из-под рук что-то нужное, пусть незначительное, но конкретное: выложенная плиткой стена, расчищенная дорожка, посаженные цветы, отремонтированная ограда.
Живя дома, Олег в часы досуга читал книги святых отцов. Их мир восхищал, душа просила подвигов, постов и молитв. А став послушником, он, незаметно для себя, переключился на романы из поселковой библиотеки. Сильно уставая на работе, он не имел сил вникать в сложные тексты, содрогался от строгости жизни подвижников, потеряв надежду достигнуть молитвенных высот исихастов. Раньше он жил лишь мечтами о Царствии Божьем, о «земле обетованной». Его интересовали все подробности бытия этой terra incognita, хотелось познать ее законы. А теперь он попал в монастырь, в преддверие Царства, и уже не было необходимости листать путеводитель, изучать климат и географию этой дивной страны, потому что она сама расстилалась перед глазами. Оставалось только покориться ее очарованию. И от «духа века сего» не надо уже защищаться, потому что от него спасают высокие каменные стены и монастырский режим. Если бы знал Олег, что дух этот каждый несет в своем сердце, и те уныние и скука, которые он постепенно стал ощущать, есть признак того, что древней змий поднимает в его душе голову, готовясь к смертельному поединку. И главный подвиг Олега — еще впереди.
«Странное все-таки существо — человек, — думал послушник, — живя в миру, жалуется на шум и суету, мешающие молитве, вожделея пристать скорее к какой-нибудь тихой пристани, чтобы там плакать о грехах, а как только посылает Господь ему нечто подобное — уже на второй день, взвыв, кидается опрометью обратно в привычное житейское море, к своим любимым погремушкам. А я… Пойти на такие жертвы, чтобы попасть сюда, — и вот… Разочарование? Ни за что! Просто утомился я. Пойти нечто поспать? Утро вечера мудренее».
И он, подкинув носком порыжелого сапога ледышку, зашагал в корпус. Отец Герасим, иконописец, наблюдал за ним из окна мастерской.
— Вишь, как вскинулся… Видать, не мирен брат. Грызет его что-то. Да и странный какой-то. Говорит — лицо в сторону от тебя воротит, краснеет все время. Сам тонкий такой, как девушка. Лет уже немало, а борода не пробивается… Ох, что же ты, отец? — спохватившийся инок ударил себя по лбу. — Что же ты, друже? Давай-ка своим грехам внимай. А ближних-то судить-рядить легко…
Вздыхая, священник дрожащей старческой рукой затеплил лампаду перед потемневшим от времени образом Спасителя, достал с полки тяжелый том, раскрыл на нужной странице, нацепил очки и, перекрестясь, погрузился в чтение. Отец Герасим заметно отличался от остальных монахов, редко участвовал в разговорах, был суров и углублен в себя. Болея сердцем о состоянии современных монастырей, он изо всех сил стремился, приобщившись к духовному сокровищу святоотеческого опыта, воссоздать хотя бы малую толику утраченного, наладить внутреннюю жизнь своих пасомых, твердо управлять вверившиеся ему души в их шествии от земли на Небо, не уклоняясь ни в излишнюю строгость, ни в потакание человеческим страстям. С глубокой скорбью он смотрел на то, как обитель все больше и больше превращалась в рабочую артель, где братия были заняты хозяйством и прибылью, церковные же службы воспринимались как досадная обязанность, отрывающая от дел. Рубка капусты, заготовка дров, реализация свиных туш многих интересовали гораздо больше, чем Иисусова молитва, внимание, трезвение, откровение помыслов и приобретение сокрушенного сердца. «Огонька нет в людях, — думал отец Герасим, — рвения нет Богу послужить. Везде ищут себя и своего. В провинции безработица, неустройство, вот и бегут сюда, где худо-бедно, но кормят, одежду дают, есть, где потрудиться, силы приложить, словом, без особого напряжения можно вести вполне порядочную жизнь».
Отец Герасим помнил, как возрождалась церковная жизнь в стране. Многие были преисполнены надежды, что с воскресением храмов воскреснет и Россия. Духовного опыта не хватало, все двигались вслепую путем проб и ошибок, но за счет пламенной веры умели ходить по воде. Хотя впадали и в заблуждения. Христианство таит в себе силу атомного ядра, люди, не умея с ним обращаться, порой взрывают собственные судьбы. Но потом пыл стал утихать. Христиане приобрели трезвость и прагматизм, научились нести светильник веры осторожно, не рискуя спалить свои дома. Тот горит уже ровным пламенем, не коптит и не тлеет. Но огонь слишком маленький! Он не может согреть и не прогоняет тьму. Церковь перестала вызывать любопытство, к ней привыкли, на проходящих по улице священников уже не оглядываются. После знакомства с верой, она стала «своей», перестала удивлять и восхищать, исчезла притягательная тайна запертой двери.
Только немногие из братии, по-настоящему интересующиеся предметами духовными, стремящиеся к подлинному иночеству, являлись для отца Герасима утешением, предметом его особенной заботы. Для них он сейчас, отнимая у себя драгоценные минуты отдыха, вчитывался в слова многовековой давности. И еще долго в ту ночь он сидел над книгой, забыв о времени, то удивленно покачивая головой, то сосредоточенно хмурясь и нервно покусывая бородку, то, пораженный чем-нибудь, поднимал голову и в задумчивости глядел в подернутое синей дымкой окно, силясь разглядеть контуры таявших во тьме предметов. И так бдел он до утренней зари, когда звук благовеста напомнил о новом трудовом дне со всеми его тревогами и заботами, добрым и беспощадным, скорбным и удачным. И вновь мир стал предельно прост, а человек, забыв свою беспомощность перед таинственной, пугающей ночью, стал господином всего и начал деловито сновать, опутывая себя насущными попечениями… Отец Герасим взглянул на часы, накинул мантию и поспешил в церковь: он был служащий иеромонах.
Вечером читали Великий канон. «Откуду начну плакатися окаяннаго жития моего деяний? — не спешно и с чувством выговаривал игумен великопостные слова. — Кое положу начало, Христе, нынешнему рыданию?» Его строгие интонации и проникновенный голос заставляли с особенным усердием внимать услышанному, так что библейские образы казались не отвлеченными историческими реалиями, но чем-то родным и близким, происходящим здесь и сейчас. Ведь не Исав вовсе продал за чечевичную похлебку Исааку свое первородство, а я, грешный, прельстившись блестящими безделушками, которыми дразнили меня бесы, променял свое богосыновнее достоинство на ряд сомнительных наслаждений. И не Петр, проявив малодушие, во дворе первосвященника отрекся от Христа: «Не ведаю сего человека», — а я, я при малейшем испытании начинаю кукситься и извиваться, отрицаясь Христова крестоношения… «Помилуй мя, Боже, помилуй мя», — будто из одной груди исходил вздох многосотенной толпы.
Чувствовалось всеобщее молитвенное воодушевление. Олег стоял позади игумена, соображая, как бы не пропустить момент, когда потребуются услуги чтеца, изучал узор на облачении: «Какая кропотливая работа! С ума сойти — от руки так вышивать! Красиво!» Все опустились на колени. «Душе моя, восстани, что спиши? Конец бо приближается…» Вдруг Олег подумал, что когда-нибудь умрет. Встретится с Богом: «Какой Он, Христос? Кроткий, смиренный… Как я оправдаюсь перед Ним?»
До сих пор вера и церковь привлекали Олега лишь тем, что здесь находила применение его кипучая молодая энергия — столько восстанавливающихся храмов, нуждающихся в рабочих руках, столько увлекательных занятий: пение, чтение, колокольный звон и иконопись, и такое удивительное православное миропонимание. Он на практике понял, что оно почти наверняка обеспечивает победу в любых философских спорах, которые так часто ведут между собой неоперившиеся юнцы, покуда жизнь не обломала им романтические крылышки. В той радостной кутерьме, которую представляло собой его существование, не было места Христу, несмотря на то, что Олег часто исповедовался и причащался, запоем читал богословскую литературу и в монастыре у начальства был на хорошем счету. И так отчетливо он представил себе это сейчас, в этот великопостный вечер, на минуточку попытавшись быть честным с самим собой, что заплакал, уткнувшись разгоряченным лицом в холодные плиты пола. Что-то ударило его в грудь, проникло до глубины души, «во святая святых», «за внутреннюю завесу». И та убийственная ложь, на которую он пошел, чтобы достичь желаемого монашеского жития, предстала пред ним, во всем своем дьявольском безобразии, вызвав твердую решимость открыться. Изнемогший, поднялся он с колен и стал внимать службе.
После ужина Олег неожиданно почувствовал себя плохо. Отпросившись с послушания, с трудом добрел до кельи. Закутался потеплее: печку уже не топили, экономя дрова. Вспомнил, как в детстве, когда он заболевал, мама покупала на рынке свежие фрукты и выдавливала сок. Вспомнил — и чуть ли не физически ощутил аромат апельсиновой дольки, если, подержав ее во рту и, наконец, сжать зубами. «Зачем я ушел из дома?»
Скрипнула дверь. На пороге показалась грузная фигура отца Герасима.
— Ну, болящий! Жив? У, брат, что-то ты совсем плох. На-ко, вот выпей. Это аспирин.
Олег пристально-пристально посмотрел на священника.
— Батюшка… Я имею нечто сказать вам.
Деревенеющей рукой полез в изголовье и, чувствуя, как через мгновение мир померкнет в его очах и разразится страшная, непоправимая катастрофа, достал что-то и протянул пришедшему.
— Вот мой настоящий паспорт.
Отец Герасим не спеша надел очки и встал к свету.
— Ну-ка, посмотрим, что у нас там такое? Григоренко Ольга Петровна…
И переменился в лице, мгновенно все поняв. Спросил глухо:
— Зачем тебе надо было это делать?
Как объяснить другому свою боль? Другому, который, обладая мудростью и саном, обязательно найдет в ответ на твой бессвязный лепет тысячу веских аргументов и припрет тебя к стенке неопровержимым доказательством твоей неправоты?
— Не знаю, как вам объяснить… С таким сердечным горением я смотрел на иноков… Так манили меня к себе их отношения между собой, грубый быт, твердая вера, бедность, граничащая с нищетой, и вместе с тем светящиеся радостью взоры. Какими красивыми казались строгие подрясники, клобуки, мантии, развевающиеся по ветру… Я так хотел попасть в их число, стать одним из них… Для этого я и создан. Ничто в миру не привлекало меня, казалось пустым и бессмысленным — деньги, карьера, наука… Какое-то пошлое мещанское счастье, суета и томление духа… А здесь тишина, природа, братия… Мне тоже хотелось служить Богу, как они…
— Не Богу тебе хотелось служить. Ты прельщаешься внешностью, формой, видом, как раз тем, что имеет значение наименьшее. Я давно наблюдаю за тобой. С упрямством и самонадеянностью ты ищешь монашества, смысла которого не понимаешь. Мир приелся тебе, там все дозволено, все испробовано, он наскучил своей пестротой и безумными наслаждениями. И все житейские заботы ты наверняка считаешь презренными для твоей возвышенной утонченной натуры. Для нее лишь религия — достойное дело… Ведь именно так ты мыслишь? Я прав? Скажи, почему же не женский монастырь?
— Там все по-другому… Не мое это… Мелочно как-то.
— А ты не мелочно цепляешься к деталям? Ведь перед Богом все равно кем быть, женщиной или мужчиной. Ладно, совесть замучила тебя, вынудив признаться. Правильно. Считай, это было первое движение к тому, чтобы начать духовную жизнь. Нелегко было? Так вот знай, что каждый шаг на этом пути сопряжен с нечеловеческими усилиями по преодолению себя. Есть боль, есть понуждение — значит, идешь в верном направлении. В этом-то и монашество… А не то, что мантия по ветру развевается… Монах — это воин, противник дьяволу, а ты, наоборот, пляшешь под его дудку, желая ходить вслед своих похотей. А в Евангелии что сказано? Отвергнись себя… Своего «хочется» или «не хочется»… Тебе нужен мой совет, что делать дальше?
Олег, понуро уставившись в пол и сжав руки, молчал, сидя на кровати.
— Возвращайся домой. Живи так, как Господь сотворил. Предоставь Ему решать, что для тебя лучше. Трудись, ходи в церковь, молись и помни: данный крест бросать мы не вправе, с него нас могут только снять. Да и без него будет еще тяжелее…
— Батюшка, благословите остаться здесь…
— Нет, здесь существование твое бесплодно, лишь на соблазн другим.
Олег, закрыв лицо, замер.
— Я не могу без монастыря… Я буду очень тосковать по братии, я здесь так привык…
Отец Герасим порывисто прижал его голову к своей груди.
— Полно-те, дружок… Погрешил и будет. Иди с Богом в мир. Все будет хорошо у тебя… А игумену я объясню.
Ах уж эти старцы, зрящие образ Божий в человеке! Они глядят на мир из пределов вечности и видят его таким, каким он должен быть. Если кто не вмещается в этот идеал, можно подрезать ему руки или ноги, чтобы он целиком вошел в форму, заполнил ее собой, а боль от процесса будет вменена ему в мученичество. Впрочем, может, и правда, расцветет он в этой правильной форме, как знать! А боль забудется, когда в душе зародится новая жизнь.
На рассвете, когда вся тварь только-только начинает просыпаться, маленькая фигурка в дырявом ватнике, широко размахивая руками, то, меся сапогами снежную грязь, карабкалась на пригорки, то, рискуя свернуть себе шею, по-ребячьи съезжала с них, падала и вставала, не заботясь, видимо, о чистоте своего наряда. Перейдя вброд маленькую реку, миновав рощу и невзрачный пустынный хутор, где доживали свой век несколько старушек и вечно пьяный бывший шофер Бориска, в периоды похмельного синдрома грозящий монастырю кулаком и обещавший свести с кем-то какие-то счеты, фигурка остановилась, бросив прощальный взгляд на виднеющуюся вдали обитель, размашисто перекрестилась и пошла вперед, в неизвестное — уже не оглядываясь…
Читайте также:
Если вам нравится наша работа — поддержите нас:
Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)