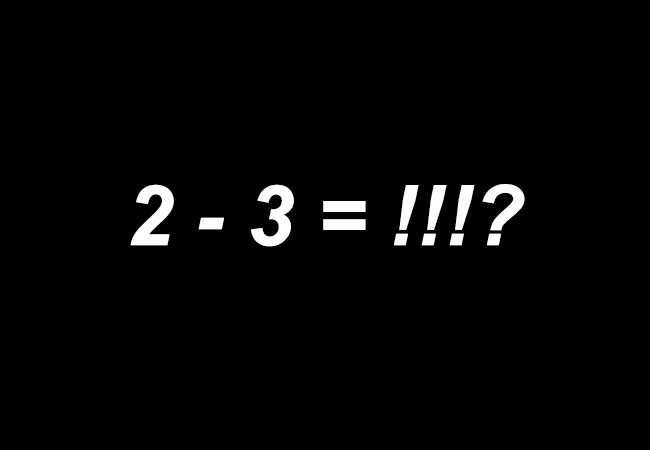Щелк…
13 декабря 2020 Дитрих Липатс
Чтение для всяких фотографов.
Фильм Рязанова «Зигзаг удачи» начинается душераздирающей для всякого фотолюбителя сценой: фотограф Орешкин смотрит с вожделением на фотоаппаратик в витрине магазина. Безжалостный ценник «400» грубо обрывает все мечты маленького человечка с окладом 70 рублей в месяц. Для кого назначались такие цены, если для профессионала-фотографа были они заоблачны? Для кого в соседнем магазине продавалась норковая шубка за 2900? Такое ли замышлял дедушка Ленин, разрушая «весь мир насилия до основания»? Вопросы риторические.
Не о том, однако, мои воспоминания. Вы помните аппаратик «Смена»? Пластмассовый такой, простенький? Помните, как удобно ложился он в руки? Помните едва пробиваемую светом красного фонаря темноту и остренький запах нагретого корпуса увеличителя? Как завороженно мы, пионеры, смотрели на лист бумаги в проявителе, на котором появлялась первая наша фотография!
Вот уж чего точно не повторится в моей жизни, так это — фотоувеличителя. Отснятые мною пленки проявляются в местной «камера-гэллери», а негативы в Фотошоп отправляет мой домашний сканер. Конечно же у меня есть и смартфон и шикарная цифровая камера — нажми лишь на кнопку и получай прекрасный снимок, но, как выразилась одна моя знакомая, «в цифре нет души». Вспомнилось: в каком-то фантастическом романе инопланетяне берутся вылечить все недуги у местного населения землян. Одна старушка, выйдя в полном здравии, негодует: «Да они вовсе не лечат, они просто чинят!» Так вот и на цифровую фотографию можно наехать: не печатлеет момента, а просто регистрирует. Но это уж так… ворчание.
Иное дело — тончайшие слои солей серебра, на которых и является волшебная светопись. Сколько же фотоматериала надо было перепортить, чтобы научиться с ним кое-как дружить и получать что-то приличное. Да и то — случайно. Да еще тут же тебе и под руку: «Вон, вожатый Петя, как фотографирует, а у тебя — одна дрянь. Брось, не позорься».
Моя настоящая фотография началась с работы в заводской многотиражке. Газетка та была у заводчан популярной — удобно, всегда активист принесет, на чем закуску разложить, ставридку почистить, что в место отхожее прихватить. Фотографии в ней было первое, что ухватывало взгляды работяг. Снимками снабжал редакцию заводской фотограф Илья. Он-то и стал моим настоящим фото-наставником и закадычным другом на всю жизнь.
Есть плотники и Плотники. Есть слесари и Слесари. Илья был Фотограф. Худ, длинноволос, во всем всегда аккуратен, вежлив, вдумчив, и как-то подозрительно трезв. Иностранец какой-то! Нос с легкой горбинкой, взгляд острый. Такой же взгляд я помню на снимках режиссера Тарковского: постоянный, неустанный поиск кадра. Когда Илья снимал, второй глаз у него всегда был профессионально открыт, что придавало ему особенный, орлиный вид.
Моя должность на том советском заводе была липовая. Редакции многотиражки нужен был дополнительный корреспондент, а ставки на него не было. Зато в соседнем отделе была ставка инженера по пожарной безопасности. На ней-то я и числился. От пожаров завод охраняла военизированная пожарная охрана; сорок офицеров в фуражках беспрестанно слонялись по цехам, давали предписания и писали отчеты, командир их отправлял меня на всякие соревнования, где я записывал репортажи для заводского радио и писал о том заметки. Я старался, все были довольны.
Раз в таком вот репортаже я рассмешил весь завод. Мужики после того, завидя меня, кричали хохоча: «Как там девушки, лишних движений не делают?» Что тут было сказать? Мой ляп, я только отмахивался. Надо ж, угораздило меня прокомментировать надевание противогазов на скорость: «Шелестит резина, девушки не делают лишних движений». Прошло бы лишь по радио, глядишь, и не заметили бы, но и в газете распечатку дали. Вот и орали мне мужики: «Как там? Резина шелестит?» И хохотали весело. Ладно уж, хоть такая малая радость у них была посреди скучной безнадежной жизни.
Вообще, относились они ко мне очень даже неплохо. Раз в месяц мне отдавался подвал последней полосы в нашем издании, где под рубрикой «Отдых» я помещал очерки о рыбалке. Про рыбалку мне рассказывали сами мужики, я лишь подливал утреннего туманчика на тихой воде, дрожание поплавка, его резкий нырок в глубину… Приукрашивал все безмерно, и это-то вот и было любимым чтением заводчан. Еще более заметной фигурой для их беззлобных шуток я стал благодаря Дяде Лене, ветерану-лекальщику, к которому отправил меня редактор, чтобы написать об этой редкой профессии.
«Ты с ним того, настороже будь, не расслабляйся, — предупредил меня редактор, — с подковыркою старичок».
Старичку было под семьдесят. Маленький, сухонький, плешивый, с насмешливым сверлящим взглядом. Его бы давно уж отправили на пенсию, да вот с лекальщиками была беда — больно уж профессия мудреная. Настоящие профи в ней остаются. Дядя Леня таким вот и был.
Показался он мне совсем простеньким. Никаких подковырок от такого и не ждешь. Словоохотливый, живой, он мне сам сразу на целый материал все и рассказал, мне и вопросов считай задавать не пришлось. «На лекальщика, почитай, лет пятнадцать учиться надо. А зарплата потом — шиш. На кой молодому столько сил да времени вкладывать, когда он пойдет на сборку и, считай, сразу там получать в полтора раза больше начнет». Словом, мне оставалось все это лишь причесать, да к нему, к Дяде Лене, на подпись. И попозировал он мне на рабочем месте. Я пощелкал казенным Зенитом, попыхал вспышкой, сбивая контрасты залитого солнцем цеха, и уж было засобирался восвояси, как Дядя Леня хитренько посмотрел на меня и сказал:
— А дозвольте мне, товарищ корреспондент, тоже у вас кой-чего спросить.
— Да конечно же, спрашивайте!
— Скажите мне тогда, отчего это от сала у мужиков ноги мерзнут?
— Что?.. Понятия не имею. Простите, по салу не специалист.
Дядю Леню как подбросило во всплеске мелкого хохота:
— Не специалист! — он вдруг обернулся и на весь цех как-то по-петушиному закричал: — Глядите, ребята, этот не знает, отчего от сала ноги мерзнут. Не специалист, говорит.
Я и не видел, что вокруг нас собралось столько работяг. Мужики словно знали, что Дядя Леня на прощание что-нибудь этакое выкинет, заранее подобрались поближе, и теперь глоток в двадцать весело ржали. «Смотрите, — предупредил их Дядя Леня, — не рассказывайте. Пусть его сам сала поест, а то вишь — не специалист».
Чепуха та быстро распространилась по заводу. Где б я ни появился с проверкою пожарных щитов, все меня кто-нибудь о том спрашивал. Мое отмахивание, на кой, мол, мне это надо, только прибавляло к тому интереса. Слышалось тут же: «Не говорите, пусть сам сала поест!» Но все по-доброму, без издевки. Я о той дурацкой проблеме и не думал. Смейтесь на здоровье. Поглазев на пожарные щиты, я боком-боком продвигался к фотолаборатории, где и застревал, в гостях у Ильи, на долгие часы.
Золотое было время. Начальство техники безопасности не очень-то меня искало: парткомовское дело, святое, газета. Наверное, работник где-то интервью берет. Редактор газеты, на меня, внештатника, тоже особо не наседал. Материалы я выдавал интересные и вовремя, снабжал их снимками, да еще и заводскому радио помогал. Словом, посреди занятого производством коллектива, мне удавалось птичкой вольной летать, и заниматься тем, что душа пожелает.
А душа моя намертво прикипела тогда к фотографии. Илья научил меня правильно держать камеру, и задерживать дыхание перед снимком, впоследствии это очень помогло в моем увлечении стрельбой. Он показал мне, как рисовать лучом фотоувеличителя, маскируя пересвеченные участки и направляя свет куда надо. Нехитрое добавление ванночек с горячей и ледяной водой, рядом с проявителем, — наконец-то! — довело мои снимки до совершенства. Да и не перечислишь всего, что мне там, в фотолаборатории, открылось.
Материала было — завались. Начальник Ильи, сидящий где-то далеко, в заводоуправлении, настаивал, чтобы вся фотобумага задействовалась, все химикаты шли в ход, а то порежут фонды, и на будущий год уж не дадут. Когда приходили коробки с пленкой комбината Свема, по двести, что ли, рулончиков в каждой, Илья делал пробы. Он снимал печатный текст, вкладывал негатив в большущий увеличитель «Беларусь», загонял его фонарь чуть не к самому потолку, и подолгу вглядывался в увеличенную до размера медного пятачка запятую. Если резкость изображения или зерно ему не нравились, коробка пленки отметалась без сожаления. Такую пленку норовил ухватить я, мне и такая запятая сошла бы, но Илья не давал — зачем тебе такая дрянь, хорошую лучше возьми.
Были еще и тяжеленькие коробки с кинопленкой. Те бывали получше качеством. Тогда мы с Ильей устраивались за столом с двух сторон. В кромешной тьме отмеряли пленку, подрезали на ощупь, мотали ее на катушечки кассет и вели долгие разговоры о том, что есть свет, тьма, Вселенная, Создатель… Мы сходились на том, что если электрон — волна, и самого протона, в общем-то, нет, значит, нет и материи, есть только энергия, светом звезд творимая. Значит, нет и нас, а есть только Господня о нас идея, сон Его, действенный, в котором мы, персонажи, мним себя чем-то…
Рабочий день кончался, я спешил в мой отдел техники безопасности, на оперативку, где и ко мне могли быть всякие вопросы.
Интересный у меня там был начальник. Сколько он ни прятался за переделанным на русский лад именем, гордого испанца было не скрыть. Ну да, испанца, одного из тех детишек, что в тридцатых эвакуировали из охваченной войной Испании в СССР. Осанка, походка, манера говорить выдавала в нем дона, хотя… его считали даже больше своим, чем меня. Ко мне он относился по-отечески, понимал, конечно, какой я сачок, но уважал за писательство, подтвержденное поступлением в Литинститут. Частенько призывал меня и давал бумаги на выправку. Конечно же, я для него старался. Дистанция, однако, всегда меж нами соблюдалась. Нагоняй я мог получить от него запросто. Вот и сейчас раздался его строгий голос: «В заключение у меня вопрос к инженеру по пожарной безопасности». Я свалился со своих звезд. То, что только лишь мгновение назад казалось иллюзией, майей, ничем, оборачивалось вдруг грубой реальностью. Сейчас он спросит, где это я целыми днями пропадаю, и поделом мне будет.
— Вопрос такой, — начальник строго смотрел на меня темными глазами корсара испанских морей и выдерживал паузу. Все съежились, ожидая разгона. — Пусть этот товарищ, человек он начитанный, в солидном заведении учится, ответит всем нам, отчего это у мужиков от сала ноги мерзнут?
Да что ты с ними поделаешь?! Спустя несколько дней мне все же сказали, в чем тут разгадка, и я только плюнул в сердцах: тьфу ты! Надо же, какая ерунда. Как дети, право!
Большущий пожар, несмотря на все отчеты, соревнования, репортажи и надзор сорока офицеров, на заводе все же случился. Спустя месяц после моего оттуда ухода. Уберег меня Господь. Это совсем уж другая история.
А тогда, окрыленный благорасположением начальства, я еще больше стал проводить времени в фотолаборатории. И было ж чем заняться. В руки мне попал старинный аппаратик Цейс Икон, с объективом Тессар на выдвижной гармошке. Смотрелся он диковато, снимать им можно было лишь со штатива, но резкость этот реликт выдавал поразительную. Илья оказался прав: широкая пленка, выпускаемая тем же комбинатом Свема, оказалась куда лучшего качества, чем обычная, непредсказуемая, в 35 миллиметров. Промышленный увеличитель «Беларусь» легко отбрасывал изображение с негативов 6×9, и, разглядев первый же снимок, Илья вознес фонарь увеличителя высоко к потолку, вскрыл широкий рулон фотобумаги, вытянул из под стола длинные глубокие ванночки, в которых снимок надо было «прокатывать» в проявителе. Спустя какой-то час мы с удивлением рассматривали огромный отпечаток с лист нынешних фотообоев. Даже по краям снимка резкость была поразительная. Та дорожка в лесу, кадр случайный, на пробу, еще долго висела на стенах моих жилищ.
Я просто подсел тогда на широкую пленку. О каком-нибудь профессиональном «Киеве» я и мечтать не мог, а вот аппаратик «Любитель» продавался в каждом фотоотделе. Стоил он всего 28 рублей, и, о чудо, достался мне очень хорошим экземпляром. Резкость снимков 6×6, конечно, нещадно «валилась» по краям кадра, но центр был очень даже не плох. Тем «Любителем» я наделал немало всяких портретов, особенно любил снимать им своих детей. До сих пор у меня на стене висит фото: два малыша, четырехлетний сын и двухлетняя дочь, сидят в высокой траве, сын задумчиво грызет былинку, дочка доверчиво смотрит в объектив. Я их настолько в те времена доконал фотосъемкой, что и из них теперь получились очень неплохие фотографы.
Из меня самого настоящего фотографа не вышло. Я навсегда остался писателем, мои снимки очень репортажны, в них больше литературщины, рассказа, чем светописи. А вот Илья был Фотограф. Раз мы сидели у него дома, жена его накрывала на чай, денек был серый, дождливый, умирал денек. Я крутил в руках аппаратик Ильи «Никон» и сетовал, что поснимать такой дорогой игрушкой сегодня не удастся. Илья, услышав это, прошел на кухню, похлопал там дверками шкафчиков, и вернулся, неся молоток для отбойки мяса и яблоко. Трахнул молотком по яблоку, направил свет от настольной лампы и щелкнул несколько раз, меняя диафрагму. Снимок получился удивительнейший. Даже занял какое-то место на выставке фотонатюрморта. Народ все останавливался возле него и вглядывался в тени на зубцах молотка и на квадратиках вмятин на яблоке.
Тот заморский «Никон» Илья позволил себе на гонорар за съемку скульптур в запасниках Эрмитажа. Своим талантом он был широко известен в узких кругах антикваров и искусствоведов. В Ленинграде Илья провел весь свой отпуск, работая по ночам, когда никто не мешал. Вернулся он оттуда какой-то странный, словно в себя смотрел, глаза едва поднимал. Несколько дней помалкивал, а потом раскололся.
Оказалось, пережил он там нечто. Места в запасниках было маловато, чтобы выставить свет и взять все в кадр приходилось немало ухитряться. Раз он возился с девой Антакольского, и вдруг почувствовал спиною сильное тепло. Подумал, батарея отопления, что ли, рядом, и, будучи занят, не оглянулся. Теплом все веяло. Илья выставлял камеру на штативе, смотрел в окуляр, наконец щелкнул затвором и только тогда обернулся. За его спиною, высилась, раскинув руки, статуя Христа.
После того в наших с ним разговорах зазвучала и христианская тематика, но и это, тоже, совсем другая история. А мой рассказ о фотосъемке, о который фотографы не менее мечтают, чем рыболовы о рыбалках. Кому из нас, одержимых, не хотелось все бросить, да закатиться куда-нибудь на севера, где скиты, древние леса, заброшенные церкви, фактура. За фактурой мы с Колей охотились в московских переулках. Непростое то было дело. Хочешь церковку на рассвете снять, так, чтобы на куполах солнышко особенное, а понаставят там с споутрянки машин, и попорчен вид. Или облачко нужное не спешит, или все мимо проплывает, и потеряешь зазря время, уйдет солнце в высоту, кончится волшебный утренний час. Совсем нас доконало распоряжение какого-то педанта-бюрократа замазать древние фундаменты домов в районе Покровки толстым слоем коричневой краски. Вот уж, точно, какая пропала фактура!
Раз, несколько лет спустя, перед переездом в Латвию, я бродил со своим аппаратом-гармошкой по тем переулкам, выискивая, что я тут еще не снял. Мужичок меня окликнул. Спешит ко мне, наверное в окно увидел и бегом. «Сколько вы, — говорит, — берете?» Я поначалу не понял, что я такое беру и у кого? Оказалось, хочется ему семейный портрет, день рождения они празднуют, вместе все собрались, так вот, нельзя ли во дворе?
Да ладно уж, коли так спешил. Не стал я ему говорить, что брать ничего не собираюсь. Зачем смущать человека? «Договоримся, — сказал, — если хорошо получится».
Все семейство вывалило во двор: тети, дяди, бабушки, дети… На такую съемку надо бы кадров двадцать уханькать, потому как кто моргнет, кто зевнет, а у меня всего два 6×9 в аппарате осталось. Поставил я их всех туда, где тенек поровней, надо было что-то смешное сказать, чтобы разулыбались. Хотел было крикнуть им: «Скажите сыр!» Не то, не та кампания. Закричать привычное: «Сейчас птичка вылетит!» — только скривятся. И вдруг гаркнул я во всю глотку, словно помог кто: «А ну, гражданы, скажите-ка мне, отчего это у мужиков от сала ноги мерзнут?»
Окрасились хмурые лица мужчин американскими улыбками, веселое недоумение возникло на лицах женщин. Остановись, мгновение! Щелк… Ты прекрасно! Добил я на них и последний свой кадр, да только первый оказался, что надо. Все довольные, никто не перекрыт, контрасты ровные. Неделю спустя встретился с тем мужичком где-то в метро, передал ему двадцать отпечатков, назвал какую-то смешную цену — не в деньгах дело, просто не хотелось его смущать да обязывать.
Бывало на моих съемках и не без курьезов. Открывали весенним деньком памятник, бюст Сергея Мироныча Кирова. Меня послали сделать о том репортаж. Репортаж — понятное дело: лови момент. Я кого только в репортажах не снимал: и передовиков труда, и спортсменов, и хор, и песни-пляски ансамбль. Привык, что все бегают, мелькают, здесь широкоугольник надо, пленку почувствительней да выдержки покороче, не то смажется все. Телевизионщики тут же, настраиваются. Толкнули начальники речи, я их пощелкал, подошли девушки покрывало снимать, и их успел, сделал. И вот упало то покрывало, обнажился бронзовый Сергей Мироныч, а я вокруг бегаю, и так его щелкну, и этак, да еще и в повтор, и на всякий случай еще. И вдруг думаю: «Что я делаю? Это ж памятник, он же никуда не денется, не убежит, а я мельтешу тут». Вечером увидел я себя по телевизору в вечерних новостях. Оператор с удовольствием поснимал, какого я там козла отскакал! Хорошо хоть Дядя Леня того не видел. Опять бы меня на весь завод прославил.
Дядя Леня меня все же достал. Отправили нас на овощную базу. Мужики там капусту с картошкой перебирают, а я для газеты стараюсь. Времена были уж новые, вот и наладил меня редактор прописать, на что время рабочее тратится. Мужики работают, а я с фотоаппаратиком. Ладно, поснимал, к ним присоединился. На шуточки только ухмыляюсь. Не я, мол, придумал.
Послали гонца. Принес. Выпили, закусили огурчиками и капустой квашеной, да и домой уж пора. В метро едем, я разговоров не слушаю, у меня своя забота: обмолвился на семинаре, что Флобера не люблю, меня мэтр и наладил эссе про то написать. Сижу, про Флобера соображаю, а меня локтем в бок. Дядя Леня. «Че, добавим, корреспондент? Третьим будешь?»
Да как им объяснишь, что не пью я вообще-то. И так, за компанию только лишь, согласился. Как бы тут отмотаться? Что б ему такое сказать? «Не, — говорю, — обещал жене трезвым домой прийти». «Ну, раз обещал, чего ж тут…» — согласился Дядя Леня.
Через пару минут остановка, как раз мне на пересадку. Я поднялся, попрощался с мужиками, пошел к двери. Перед выходом слышу, кричит мне Дядя Леня на весь вагон: «Эй, корреспондент!» Строгий такой он вдруг стал, авторитетный, все на него смотрят, как на начальника, а он мне: «Смотри, обещал жене трезвым домой прийти!»
Эх, Дядя Леня! Царство тебе Небесное! С тех пор прошло уж почти сорок лет, где я только ни побывал, что я только ни поснимал, а вот фотки этого доброго, всегда веселого человечка у меня не осталось. Но помню, все помню до мельчайшей детали. Спасибо, Господи, за все!
Недавно, сдавая пленку в проявку, я пошутил: «Наверное, лишь я один вам такое таскаю?» На что клерк ответил: «Вы удивитесь, сколько людей сейчас снимает на пленку. Особенно началось с ковидом. Наша проявочная машина работает теперь без остановки».
Вот так тебе! Нет худа без добра.
Как-то, в час досуга, я бродил без особой цели в местном оружейном магазине. В углу, возле самого прилавка, наткнулся на бочку, из которой торчали ружейные стволы. «Батюшки! — удивился я. — Так это ж русские трехлинейки!»
Винтовки были с поблекшим воронением, кончики их стволов округлились, отполировались от беспрестанного перекладывания. На некоторых еще были замызганные, видавшие виды ремни. Именно такая была у солдата Шадрина из фильма «Человек с ружьем». Только та была со штыком, здесь же штыков не было. Хотя, если спросить… Я вытянул одну. Приклад старый, потертый, явно окопная, может, даже и боевая… Полковник Голицын из нее в ворога палил или Корнет Оболенский? А может, и правда солдат Шадрин? Я держал в руках эту музейную редкость из бочки и словно чувствовал за ней трагедию. Такой уж я впечатлительный. Как эти стволы сюда занесло? Спустя сотню лет…
— Берите, недорого, — сказал мне продавец. — У меня их много. Всего лишь девяносто долларов штука. Я вам еще продам к ней ящик патронов. Отдам за полцены.
— Патронам тоже сто лет?
— Нет, патроны новые. Китайские.
— Спасибо, у меня уже есть русский карабин.
— Что ж, что есть! — удивился продавец. Он широким жестом обвел свой товар и продолжил: — Это все — игрушки. Игрушек у человека может быть сколько угодно.
Я не стал покупать ту чужую беду. Огнестрел я игрушками не считаю, а вот фотоаппаратиками всякими, точно, всегда обрастал. Интересно заметил один американскими блогер. Для почитателей английского приведу эту пару строчек полностью: «Photographers love cameras, I mean they’re in love with them, it’s a feeling that non-photographers don’t understand». То есть: «Фотографы любят камеры. Скажу больше, они влюблены в них. Чувства этого нефотографам не понять».
И точно, что бы такое, увенчанное объективом, ни попадало мне в руки, сразу я тянулся за пленкой, сразу хотел попробовать. Так у меня оседало всякое, что пылилось у родственников или знакомых без дела, что по дешевке продавалось в комиссионках, на что я подолгу собирал средства. Камер десять у меня было, и, конечно же, польский увеличитель «Крокус», а как же еще напечатаешь с негативов 6×9? Самое интересное и компактное приехало со мной в Оклахому. Здесь я положил весь этот утиль в суму и снес в местный фотомагазин. Хозяин долго смотрел на всю кучу, вертел в руках занятную зеркалку «Старт», цокал языком на «Любитель». Наконец сказал:
— Очень интересно, но больше ста долларов за все это дать не могу.
— Деньги мне не нужны, — ответил я. — Давайте поменяемся. Дайте мне что-нибудь достойное. Японское.
Это продавцу понравилось куда больше. Он достал с полки симпатичную, слегка поюзанную «Минольту», на которой стоял ценник $ 150.00, и мы ударили по рукам.
Прошло много лет. Чем я тут только ни снимал, но снова обзавелся я и таким же, утраченным мною тогда, «Любителем», и смешной гармошкой Цейс Икон с объективом Тессар, и «Никоном FE», конечно, точно таким же, какой был у моего друга Ильи. Как же недорого, по местным, конечно, оклахомским меркам, все это теперь стоит! Эх, не дожил до такого фотограф Орешкин!
Конечно, если мне нужно узнать точное время, я взгляну на электронные часы. Если мне нужно снять что-то важное, я возьму цифровую камеру. Но отдыхая дома, я с удовольствием слушаю мерное тиканье и бой старых настенных часов и вожусь с фотопленкой. Сколько в этом воспоминаний! В пленке особый цвет, особый шарм, не передать его цифрой. Пленка — всегда тайна. Не взглянешь тут сразу, что получилось, не поправишь ошибку, здесь необходим опыт, дисциплина, терпение, умение предугадать, посчитать, предвидеть.
Долго я соображал, какой фотографией украсить этот мой текст. Любимых снимков у меня много, но остановился я на том, что вы видите в заглавии. Это же мечта нашего дедушки Ленина: здесь и электрификация, и забор, и ритм в перспективе. Такая вот картинка, приправленная советской властью, должна была прямиком вести нас всех в коммунизм, где всего было бы завались, где бы набрал себе фотограф Орешкин хоть сто камер, и сидел бы с ними, игрался. Сделан этот снимок в Лос-Анжелесе, но какая в том беда? На то и замысливалась мировая революция, чтобы везде электролинии и везде заборы. Ну не получилось… Что ж… На все воля Божья.
Если вам нравится наша работа — поддержите нас:
Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)