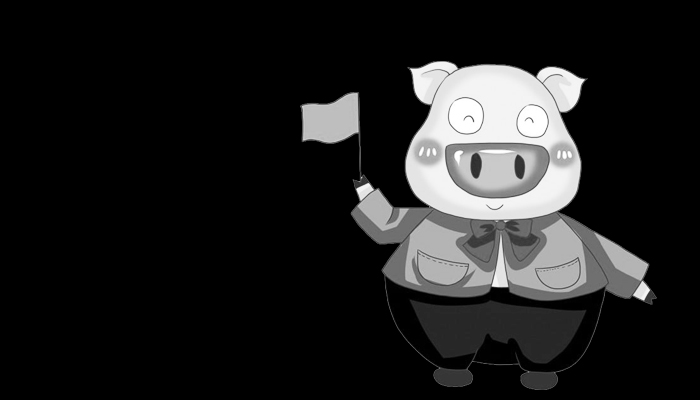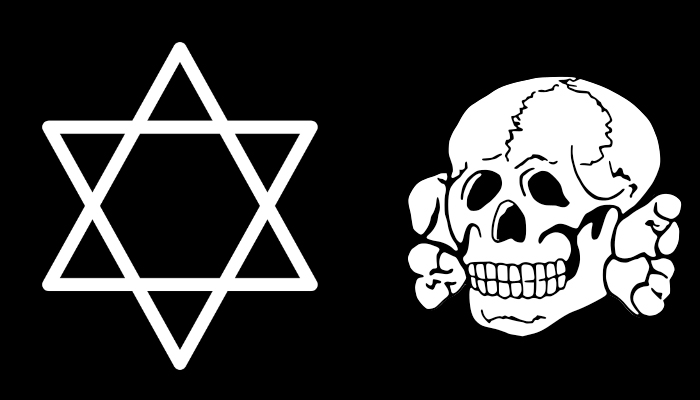Снег выпал только в январе
29 февраля 2020 Дитрих Липатс
Из рассказов о русских в Америке.
Это было в ноябре, несколько лет назад. Весь вечер дождь то лил, то разбивался в подвешенную морось. Мы все ждали снега, но в ту ночь так и не заснежило.
За день мои «типы» (чаевыми их как-то не хочется называть) сложились в хорошие деньги, и потому туман на ветровом стекле, мокрые ноги и усталость мне не портили настроения.
Наши покупатели — пожиратели пиццы — в тот вечер как с ума посходили. Начиная часов с четырех, экран компьютера едва вмещал весь список заказов. Два поваренка раскатывали тесто, трое поливали его соусом, быстро укладывали на нем колбасу, спешно посыпали сыром и толкали в гудящие печи. Парни у сортировочного стола едва успевали резать скворчащие пиццы огромными сабельными ножами. Печи уже раскалили небольшое пространство до девяноста градусов, и температура все продолжала расти.
Менеджеры бегали между столами и печами, отдавая приказы, помогая поварятам, и, бросая все, спешили обслужить тех покупателей, что забирали пиццу сами. Грохот сковородок, рок-музыка из дешевых приемников, вопящих по углам каждый свое, крики «CBS on top, please!», «three chef salads to the front!», шутки, смех и странная для покупателей речь русских девчонок, никогда не прекращавших болтать? — все это сливалось в громкий назойливый шум.
Меня вся эта суета не очень-то касалась. Мне что? Зашел на пару минут, перекинулся словом-другим с кем-нибудь, забрал заказы, и опять на дорогу. Привыкнув к теплу и покою своей Хонды, я и не представлял, как все это можно выносить часами. Книжки на кассетах и музыка скрашивали мою жизнь и держали меня привязанным к этой непрестижной работе. Я, бывало, даже по выходным звонил менеджеру и просился на дорогу. Руль моей верной лошадки давно уже потерял свою пупырчатую фактуру и, отполированный моими руками, посверкивал черным матовым блеском.
Не помню, что я в ту ночь слушал. Кажется, «Свет в августе». Скоро я свернул в темную улицу, где большинство номеров на бровке асфальта подстерлось, и дом заказчика пришлось вычислять интуитивно.
На крыльце вяло светила лампочка; это было хорошо. Даже и не стараясь не замочить ног в некошеной траве, я пронес свою сумку с горячей жратвой к крыльцу и, не веря в кнопку звонка, забарабанил в дверь.
Сквозь радостный лай собак, что, казалось, только и ждали моего прихода, я услышал голоса. Дверь приоткрылась и на меня взглянула девочка лет тринадцати. Я открыл было рот, чтобы сказать свое «Hello», но девочка отвернулась и прокричала куда-то в дом: «Нет, не он!» После обычной заминки, когда покупатели изолируют своих барбосов, потертая дверь отворилась снова, и предо мной предстала женщина. Отводя глаза от низкого выреза ее платья, над которым болтался дрызгающий дешевым блеском кулон, я поздоровался, протянул ей пиццу и, глядя на ее туфли, назвал цену. «С вечеринки, что ли, только что завалилась?» — подумал я, принимая двадцатидолларовую бумажку.
— Два пятьдесят девять — сдача, — проговорил, доставая свой казенный кошель, выжидая обычного «сдачи не надо».
— Подождите секунду, — она скрылась на мгновение и появилась опять, протягивая мне пригоршню четвертаков. — Простите, что мелочью, спасибо, что пришли в такую ночь.
По весу монеты тянули еще доллара на три.
— Thanks, you’ve brightened my night, Mam. People like you make America a great country, — проговорил я свои дежурные комплименты.
— А что, Митч сегодня не работает? — спросила вдруг она.
Я взглянул ей в лицо. У нее была бородавка на щеке, но вообще для своих лет выглядела женщина неплохо. Глаза выручали. Большие, карие, старательно подведенные.
Митч был один из нас, шоферов, мой приятель.
— Митч? Простите, не знаю, — соврал я.
— Наверное, он сегодня выходной. Иначе бы он сам приехал. Всегда приезжает, — сказала она грустно.
— Передать ему привет? — спросил я.
— Передайте.
Она вздохнула, попрощалась и закрыла дверь.
Спасибо, свет не выключила. А то часто бывает — goodbye и выключатель — тырк. А ты в темноте хоть лоб расшиби.
По пути назад я свою книжку уже не слушал. Что-то было в голосе женщины, что я поневоле теперь думал о Митче и о ней. Не с вечеринки она завалилась, а Митча ждала. Ей и пицца-то, небось, не нужна.
Дождь на время перестал, я выключил надоевшее за день махание дворников и держался подальше от машин впереди, чтобы не забрасывало стекло.
***
Митч, когда я встретил его впервые, напомнил мне хулиганистых пацанов с моей московской окраины. Он был средненького роста, но хорошо сложен и мускулист. Короткие волосы он отпустил под затылком в поросячий хвостик. Хулиганы моих прошлых лет его бы за этот хвост засмеяли, но тут что скажешь — Америка.
Я поначалу внимания на него не обратил. С каждым новичком знакомиться — вот еще. Большинство их больше недели у нас не выдерживали. Где-то дней уже десять спустя, помню, сидел я за холодильником на табуретке, коробки складывал. Кто-то начал петь под радио, да так здорово, что я коробки отложил и выглянул посмотреть. Митч отплясывал и пел «Have you ever seen the Rain». Я уж не знаю, приплясывал ли сам Джон Фогерти, когда пел, но у Митча это получалось здорово.
— Эй, — позвал я, когда он остановился. — Давай, ты петь будешь, а я билеты продавать. Много не возьму — шестьдесят процентов после налогов, остальное — твое. Я из тебя звезду сделаю.
Он, видно, не ожидал, что на него кто-то смотрит. Только я говорить начал, он весь подобрался, голова чуть дернулась в мою сторону, но на меня он прямо не посмотрел, лишь глаза скосил. Так и стоял в напряге, замерев на месте. Потом только вдруг расслабился и улыбнулся.
— Иди, научу коробки складывать, — позвал я.
Он подошел, улыбаясь неловко. Видно, не знал, как говорить с русским, который, к тому же старше его лет на двадцать.
— Я эту песенку еще давным-давно, в школе пел, — сказал я, — мы тогда пластинками у ГУМа менялись. ГУМ, ты не знаешь, такой шоппинг-мол посреди Москвы. Купим вскладчину диск, на кассеты перепишем, продадим записи и опять туда. Эх, были времена!
Технику складывания коробок Митч подхватил быстро. Работал, слушал мою трепотню, наклонив свою стриженую голову, посматривал на меня, как на говорящую обезьяну, с легким недоверием. К концу дня мы совсем подружились.
Он рассказал, что ему двадцать пять лет, что есть у него дочка, которая живет с какой-то бабкой его бывшей жены, а саму жену за наркоманство лишили материнских прав.
Митч узнал, что я все еще занимаюсь продажей недвижимости, и весь как загорелся. Рассказал, что судья не дает ему забрать дочку, потому что у него нет собственности, то есть дома, которым бы он обладал. Я расспросил его о его кредитной истории, о заработках, в общем обо всем, что надо знать, прежде чем с покупателем вообще чем-то заниматься. Как я и ожидал, дело его было — труха.
Мне на таких покупателей везет, как магнитом их ко мне тянет. Я ему о том в тот раз не сказал, послал его к своей знакомой банкирше, та иной раз и не таким заем оформляла.
Через неделю он у нее побывал. Сделать она, как я и ожидал, ничего не смогла. Митч должен был продержаться на одной работе, по крайней мере, с полгода, отдать хотя бы часть долгов и собрать тыщ пять наличными. Только рукой махнешь.
— Видишь, — сказал он мне тогда грустно. — Я бедный.
Мы снова складывали коробки позади холодильника.
— Хватит болтать. Какой ты бедный? Ты же американец.
— Ну и что? Денег же мне не дают. Значит, я бедный американец.
— Слушай. Нет, ты смотри мне в глаза и запоминай. Ты не бедный, у тебя просто нет денег. Временно, понял? Никогда не говори, что ты бедный.
— Это правда, — согласился он. — Я буду богат. Мы с тобой будет богаты. Давай делать что-нибудь.
— Что?
— Я знаю одного малого, — сказал Митч, оглядевшись, как будто нас кто-то мог подслушать, и продолжил полушепотом: — Этот парень покупает старые компьютеры, делает апгрэйд и продает. С каждого получает по шесть сотен. Он мне предложил купить сразу десять, очень выгодно. Можно сделать хорошие деньги.
— Пусть он других дураков ищет. Я в вашей Америке уже достаточно глупостей понаделал. С меня хватит.
Митч спорить не стал. Коробки так и летели из-под его рук, наверное, соображал крепко. Скоро подошла его очередь развозить заказы. Из ресторанчика он так и вылетел, с парковки погнал с визгом шин.
Митч сменил много профессий, та, что принесла ему наибольший доход, повергла меня в громкий смех. Митч был стриппером. Вот уж, и смех и грех. Скоро это стало известно всем. Повара и шофера, посмеявшись, прониклись к Митчу даже какой-то симпатией. Парня, который так здорово пел и плясал под радио, скоро полюбили. Когда он начинал выплясывать как перед дамами в баре, смотреть было противно, но все хохотали до слез и подбадривали: «Go, Mitch, Go!» Давай, мол, давай. Он и давал. Не часто, однако, такой концерт устраивал.
Его карьера танцора окончилась бесславно. Однажды какие-то девчонки пригласили его развлечь их на вечеринке в честь дня рождения. Митч там их так очаровал, что те забыли про своих ребят и просили его танцевать еще и еще. Парням это скоро надоело. В драке Митчу всадили нож под ребро.
***
Все это пришло мне на память, когда я добирался по отражениям уличных огней назад, к ресторанчику. Джип Митча стоял на парковке.
— Я, кажется, твою маму встретил, — сказал я ему, как только вошел.
— Какую маму? — удивился он.
— Милая такая дама с Джаспер Стрит. Про тебя спрашивала. Я подумал — мама.
— Это не мама. Это моя girlfriend.
— Чего? — я рассмеялся. — Почему тогда ты этот заказ не взял? Твоя подруга — не моя.
— Меня ее сын терпеть не может.
Мне всегда нравилась его откровенность, хотя временами она и раздражала.
— Сын? А сколько ему?
— Года на четыре меня младше, — пожал плечами Митч. Он отбил свой номер напротив адресов на компьютере, взял сумки и вышел в ночь.
Спустя минут пять я снова был за рулем. Ни Фолкнера на кассете, ни музыки слушать не хотелось. Митч не соврал. Женщина, что я встретил, правда, была его girlfriend.
***
Другую его подругу звали Татьяной. Была она дочерью русского пресвитера-пятидесятника, который приехал в Америку где-то в конце восьмидесятых. У пресвитера было десять детей. Все они тогда остались в России и теперь, один за другим, пробирались к отцу, в Оклахому. Несмотря на строгое воспитание, не все выросли убежденными христианами. Но большинство детей пошли в отца. Такова была и Татьяна. Без Библии она и из дома не выходила, таскала свою затрепанную, испещренную пометками святыню в сумочке. Поначалу почитывала ее в перерывах, потом, когда прошел первый стресс, больше не доставала. Вместо этого в перерывах листала русско-английский словарь и сборник английских идиом. Книжки те были напечатаны в Казахстане, где-то в начале шестидесятых, и хороши были для времен королевы Виктории и Джейн Остин. Для современной Америки подходили они мало. Татьяна же, несмотря на мой скептицизм, считала те книжки вторыми после Библии по важности. Мы с ней как-то поговорили о вере и с тех пор она вообще не очень-то мне доверяла. «Бог у тебя, — говорила, — какой-то уж очень удобный».
Словарь тот она умудрялась почитывать, даже когда управлялась с электрической скалкой. Едва слыша какое-либо важное для ее работы слово, листала страницы или спрашивала меня. И все жаловалась на «их дурной бедный язык». Я к таким разговорам давно привык. Объяснять, что в английском слов раза в полтора побольше, чем в русском, я и не пытался. Будучи по своей природе говорливой и до всего любопытной, Татьяна скоро стала пробовать общаться. Сначала неловко, со стеснением, потом, видя, что людям нравятся ее старания, все смелее. Понемногу, набирая все больше слов, а где слов не хватало, помогая себе жестами и бегая ко мне за помощью, она преодолевала ненавистный ей языковой барьер.
Была она работягой, и менеджер ценил ее за то, что делала она все на совесть. Посуду она мыла куда лучше нас, шоферов, пол после ее швабры блестел не только посередине, но и в самых забытых углах. Во время ее смены ни сковородки под столами не накапливались, ни ведра помойные не переполнялись. Скоро она научилась делать такие пиццы, что их на рекламный плакат можно было снимать. Она не ходила, а почти бегала, таская пачки сковородок или толкая по полу пластиковые ведра с тестом.
Видом вот только Татьяна не то, что не вышла, а просто внешностью своей особо не занималась. Кроме мыла и воды, кожа ее никаких средств ухода не знала, и потому выглядела Татьяна куда старше своих тридцати пяти лет. Старила ее и легкая седина в волосах, собранных на затылке купленным где-то еще в России коричневым гребнем. Однако стройность ее и гибкость не скрывала даже неуклюжая спецодежда, которая делала всех наших женщин одинаковыми.
Как-то она рассказала, что раз накрасилась, и чуть не обернулось это большой для нее бедой. В их церковной общине были строгие правила. Женщинам краситься было нельзя. Сам черт ее, видно, попутал, когда собралась она фотографироваться на паспорт. Сказала вскользь подружке, куда идет, а та давай хохотать — куда, мол, ты, такая страшная на фотку? Давай, я тебя подкрашу. Татьяна сначала отнекивалась, а подружка все уговаривает и хохочет. «На, — говорит, — в зеркало на себя посмотри — умрешь со страху. Тебе ж, — говорит, — паспорт на всю жизнь, тебе ж стыдно будет, что ты в двадцать пять такой Бабой Ягой ходила». Уговорила, короче. Так ее причепурила — Татьяна себя не узнала. В студии еще и цветной снимок заказала. Фото получилось — глаз не оторвать, такая красавица. Она ту карточку цветную, как сокровище хранила, а паспорт никому не показывала, особенно в церкви, где с ней незадолго до того еще похлеще история случилась.
Двумя годами раньше родился у Татьяны мальчик. Отцом его был парень, что появился в их церкви после отсидки. Верующие — народ добрый — приняли, с жильем помогли. Парень оказался активный: старикам помогал, на «языках» заговорил, а когда в крещении ему не то, что отказали, а посоветовали повременить, укрепиться в вере, он очень расстроился.
Пятидесятники оказались правы. Месяца не прошло, как парень тот напился и устроил драку в местном ресторане. Дальше — больше. Запил так, что в церковь и ходить перестал. Но самой большой бедой было то, что Татьяна от него забеременела. Да и не только забеременела, а продолжала еще и жить с ним, пьяницей, во грехе. Злые языки прибавляли, что и пьют они вместе.
Татьяна же заявила, что были бы старейшины помудрее и не отказали бы человеку в крещении, не сорвался бы ее милый на пьянство и драки. «Что вы на себя такую ответственность берете — мешаете человеку с Богом союз заключить! — кричала она в запальчивости. — Если человек решил креститься, спасение получить, что вы поперек встаете? Бог его сам к этому привел, у вас права нет отказывать. Вы против Духа Святого идете, лицемеры!»
За это и ее исключили из церкви.
Жизнь ее с бывшим зеком была как страшный сон. С работы его погнали, стал он воровать ее вещи — на водку их менял. Они дрались. В редкие моменты затиший, Татьяна старалась его вразумить, а в день, когда она рожала, его арестовали за грабеж и месяц спустя осудили на двенадцать лет.
Мальчишка родился здоровым. Смотрел на всех умными глазенками, по ночам спал. Матери, словом, радость. Из церкви приходили люди, помогали, жалели ее, и вскоре вернулась Татьяна к своим. Покаялась принародно, и забылась та история. А тут такое фото. Конечно, никому она его не показывала.
Десять лет спустя, фотография та на паспорте чуть-чуть не навлекла большую беду. Получила Татьяна по почте приглашение в Американское посольство на интервью. Как и все ее братья и сестры, по совету отца, жившего уже несколько лет в Оклахоме, она подала заявление на статус беженца, и теперь вот надо было ехать в Москву. Постоянной зарплаты к тому времени у нее уже не было, перебивалась она случайными заработками, сына-то кормить едва денег хватало, а тут в Москву ехать — и обувь и платье новое надо было купить. А там еще неизвестно, как все обернется. Церковь помогла с деньгами на билет, родственники собрали кое-что, и поехала Татьяна в столицу, где до того никогда не была и никого, конечно, не знала.
Хорошо, хоть интервью не отложили. В назначенный день Татьяна с сыном ждали своей очереди в большой комнате, полной взвинченных людей, чья судьба решалась за закрытыми дверями. Вокруг все только и говорили о том, как отвечать, да как вести себя под допросом. Въездные визы давали далеко не всем. Особенной неудачей считалось попасть к одной тетке, которая ко всему придиралась и часто отказывала. Была она индианкой, американской, конечно, и хоть и выглядела как простая сибирячка, к ней, как говорится, и на козе было не подъехать. Индианка та, как назло, была знатоком русских верующих, и, если кто пытался под них косить, она враз раскусывала и гнала. Писание она чуть ли не наизусть знала, а места что в церквях зачитываются постоянно, — и подавно. Перепуганные пятидесятники и баптисты шелестели страницами и бормотали библейские стихи у тех закрытых дверей. Говорили, что если хлопнет та тетка паспортом о стол — не видать тебе Америки.
Глядя на все это Татьяна так расстроилась, что и имени своего не услышала, когда прокричали. Сынок отвел ее за руку к тем дверям. Прошли они по какому-то коридору, против стола полированного сели, и пришла в себя Татьяна только когда против нее продавщица-матершинница, что из магазина на углу ее улицы, уселась. «Эта-то как сюда попала?» — изумилась Татьяна. Та достала какие-то бумаги и давай их листать. А потом спросила, как ее, Татьяну, зовут. Женщина говорила с акцентом и без мата, и Татьяна поняла, что обозналась. Постепенно она освоилась, на вопросы отвечала подробно, и от себя еще прибавляла того, что не спрашивали. В общем, все, казалось, хорошо шло.
— Вы краситесь? — та спрашивает.
— Да что вы, никогда, — ответила Татьяна, махнув рукой, не ожидая подвоха.
А та ей паспорт под нос — а это, мол, что?
Глядя на подведенные ресницы и накрашенные губы на фотографии, Татьяна поникла. Тетка спрашивает, что Христос сказал, когда Лазаря оживлял, Татьяна то место отлично знала, а тут словно ветром все из головы выдуло. Сидит, только глазами моргает. Словно столбняк ее схватил.
Тетка паспорт ее закрыла и по столу им — шлеп. Потом ручку взяла и давай что-то в бумагах строчить. Тут как нашло на Татьяну что-то. Сначала шепотом, а потом все громче начала она бормотать. Читала она слово в слово, всю генеалогию Христа из первой главы Евангелия от Матфея. Тетка писать прекратила и достала Библию из ящика стола. Открыла нужное место — сидит сверяет, а Татьяна с именами закончила и дальше слово в слово шпарит. Первую главу прочла, вторую начала. Наконец тетка говорит: «Довольно». Татьяна смотрит на нее, глазами моргает, словно с луны свалилась. Сам Дух Святой тогда за Татьяну вступился. Вот уж правда: «Когда идете на суд…» Короче, поставили ей в паспорте заветный штамп.
Позже, однако, выяснилось, что пустили ее в Штаты лишь на положении «пароля». Фонды, которыми пользовались беженцы, для нее были закрыты. Ехала она на милость родственников, только лишь в разрешении на работу ей не отказали.
Когда уж на полке вагонной покачивалась, поздно ночью, осознала она, что случилось, и не удержалась от слез. Поняла, что теперь сын ее, что внизу посапывал, есть будет досыта, что одежка у него хорошая будет и велосипед, а там, когда подрастет, то и машина. Выучится он на инженера и будет жить как человек, потому что, говорят, в Америке и простые мужики не пьют, а инженеры и подавно. Смотрела она за окно, где угрюмая и темная Россия тлела редкими огоньками, и молилась истово, Бога благодаря.
***
Отец Татьяны, пресвитер, жил на махонькую пенсию. Первая его жена, та, что родила ему десять детей, умирая, наказала ему жениться на своей сестре, он и женился. И в Америку с ней переехал. Церковь его была совсем на другой стороне города, он ездил туда каждый день на своей маленькой Geo Metro, которую шутя прозвал Геометрией. К жаре они с женой были привычные и, к удивлению соседей, даже кондиционером не пользовались — экономили на электричестве. Позади их маленького домика проходила насыпь старой железной дороги, теперь уже лишенной рельс, а дальше зеленел лес, такой заросший, что толку в нем не было. Пошел дед как-то туда по грибы, да ими там и не пахло. Увидел только большую змею и поспешил домой.
Полоску земли, что лежала меж его домом и старой насыпью, он приспособил под огород. Построил там же и курятник. Молоденькие яблони, сливы и даже грушевые деревья бросали сень на грядки со всевозможными овощами. Вместе с женой работали они в своем саду по утрам, а часам к десяти, когда солнышко начинало припекать, шли в комнаты, на отдых. Петухи и куры, гуси и даже пара индеек привольно чувствовали себя во дворе и даже в самом доме, двери которого всегда были открыты по обоим сторонам, приглашая ветер выдувать духоту. Мухи всех мастей жужжали над хлебными корками. поклеванными домашней птицей; все здесь выглядело, звучало и пахло, как в почти позабытом доколхозном детстве. Даже и не подозревая о существовании каких-то там строительных правил, пристроил себе дед к дому террасу, поставил навес над машиной, сарайку. Все это сколотил из подобранных, где попались, досок и брошенных рекламных щитов. По вечерам он любил сиживать в теньке, радуясь изобилию, которым Господь скрасил конец его жизни.
Татьяна с сыном приехали в конце августа, когда летняя жара еще и не шла на убыль. В первый же вечер, разморенная влажной духотой и уставшая с дороги, сидела она на ступеньках заднего крыльца, смотрела на те же звезды, что светили ей и в России. В курятнике послышался какой-то шорох, и через секунду там начался целый переполох. На шум выскочил из дома дед. Бросились они вместе на подмогу птице, и первое, что увидели — лежал поперек курятника поверженный гусь. А из угла, освещенный фонарем, взглянул на них черт. То был опоссум, но Татьяна такого страшного зверя раньше не видела. Ослепленный зверь сначала сидел оцепенев, а потом хотел было юркнуть в темноту, но Татьяна оказалась проворней. Как кошка кинулась она вперед и ухватила вора за загривок. Растянули они опоссума на бревне, и одним ударом топора отсекла Татьяна ему голову. Так началась ее новая жизнь.
Через несколько дней отец отвез ее в Оклахома-Сити. В иммиграционном отделе Татьяне выдали пластиковую карточку размером с водительские права с фотографией и отпечатком ее большого пальца — разрешение на работу.
Русская церковь, да несколько магазинов подержанных товаров — было все, что повидала Татьяна в первые дни в Америке. Понять, что это за страна, она и не пыталась. Все ей вокруг улыбались, в холодильнике у отца было полно запасов — ешь не хочу, глаза у ее мальчонки горели любопытством, тому все здесь нравилось. Что еще нужно для счастья? Все вместе они по вечерам молились, стоя на коленях, и голос старого пресвитера, звучный как труба, казалось, был слышен не только по всей окрестности, но и на самих небесах, откуда Господь взирал на счастливое семейство.
Неделю спустя после приезда, Татьяна пришла работать в наш ресторанчик — единственное место, где ей кто-то мог помочь с языком. Этим кем-то был я.
***
— She has legs, — сказал Митч, разглядывая Татьяну. Она работала, повернувшись к нам спиной, не подозревая, что ее обсуждают.
— Ну ты даешь! — усмехнулся я. — Ноги у всех есть.
— У нее хорошие. Она вообще красивая. Как ты думаешь, захочет она со мной встречаться?
— Да ты, парень, в уме? Она ж на десять лет тебя старше.
— Ну и что. У меня все женщины были старше меня.
— Ну не знаю, может, и будет. Только тебе придется ее отца тоже с собой в кино брать. Иначе не получится.
Митч усмехнулся криво, не спуская с Татьяны глаз. Она работала ритмично, словно экономя движения. Могла работать так часами.
— Эй, Тань! — крикнул я по-русски. — Митч хочет тебя на свидание пригласить.
— Чего? — спросила она удивленно, и рука ее дрогнула. Из электрической скалки вместо аккуратного блина полезли рваные лохмотья теста. — Тьфу ты. Ну чего мешаешь? — обернулась она.
Волосы ее выбились из-под гребня, нос был в муке. Куда такую на свидание?
— В ресторан тебя хочет сводить или в кино, — сказал я по-русски и обернулся к Митчу:
— Am I right?
— Что? — спросил он.
— Я говорю, в кино ты ее хочешь сводить, или в ресторан, — продолжал я валять дурака.
— Ну да, сегодня.
— Я с вами не пойду, — предупредил я. — Сами там разбирайтесь.
Татьяна так и стояла с тестом в руках, вслушиваясь.
— Что, не поняла? В кино сегодня пойдешь.
— Еще чего!
Она фыркнула и отвернулась к своей электрической скалке. Снова заработала в том же привычном ритме, только выглядела она теперь чуть иначе — знала, что мы на нее смотрим.
Заказов подвалило, и я совсем забыл о Татьяне и Митче. После девяти, когда все наконец успокоилось, я занялся смазкой сковородок. 50 больших, 30 среднего размера, 40 маленьких. Брал их из подготовленной стопки, набирал на кисть масла, размазывал ровным слоем. Крышку сверху и — в другую стопку. Подобные работы давались нам, шоферам, словно в отместку за нашу вольную жизнь и шальные деньги. Татьяна протирала столы из нержавейки, Митч вертелся вокруг нее — шуровал шваброй, протирая пол.
Она старалась втолковать ему по-русски, что пол мыть еще рано, в ответ он пританцовывал, обнимая швабру как девушку, и распевал обрывки любовных песенок. Что он такое поет, она не понимала, но голос ей нравился. Он вдруг раздул щеки и загудел на плотно сжатых губах Jingle Bells, заключив это все смешным громким звуком, — словно пробка вылетела из бутылки.
Кто был вокруг, рассмеялись, посыпались шутки. Смущенная Татьяна только лишь вскликнула: «Да ну тебя, дурачок!» и с еще большей энергией стала тереть тряпкой чистый уже стол.
Митч не отходил, но Татьяна больше на него не смотрела. Совсем заскучав, он подошел к ней сзади и положил руки ей на плечи. Так просто — помассировать, как это часто делается на работе, особенно в конце дня, когда легкий массаж снимает усталость. Татьяна вздрогнула, как ударенная током, и, если бы Митч не увернулся, грязная тряпка точно хлопнула бы его по лбу. Глаза Татьяны сверкали, видно было, что она едва сдерживается, ищет и не может найти слов, чтобы его отругать.
На следующий день его кто-то спросил, что бы было, если б Татьяна и вправду его огрела?
— Не огрела бы, — ответил Митч, — у меня реакция лучше.
Он к тому же был еще и боксером. Иногда он участвовал в боях, что предлагали заезжие знаменитости, и после этого ходил весь в синяках, но довольный: оценку ему давали неплохую. Когда мне надо было раскрыть коробку с пластиковыми тарелками, я даже не шел за ножом. Просто подставлял ее Митчу, и он одним ударом крушил все склейки. Я спросил его как-то раз, что он делает дома после работы, и он ответил, что колотит Dummy. Эти дамми — резиновые манекены, этакие мужики с довольными мордами, продавались в спортивных магазинах. Один из них на свою беду попал к Митчу. «И что ж ты, все время его колотишь?» — спросил я. «Почти все время», — подумав, ответил Митч.
Реакция его и правда, должно быть, была неплохой, но я не думаю, что он мог бы поймать опоссума, особенно, после перелета через океан.
Мало-помалу Татьяна все больше осваивалась на новом месте. Английский она осиливала с удивляющей быстротой. Спустя месяц она уже знала все необходимые ей в работе слова и даже старалась говорить. Люди вокруг подхватывали ее русские выражения и скоро, благодаря Татьяниной общительности, в ресторанчике нашем зазвучала странная смесь двух языков.
Отношения ее с Митчем, конечно же, привлекали внимание. Заигрыванием их трудно было назвать. Было все это какой-то неловкой игрой двух взрослых людей. Татьяну смущал возраст Митча, и она гнала от себя даже и мысли о чем-то серьезном. Он же, напротив, ничуть не смущался, казалось, ему даже нравится ее колючесть — преграда на пути к цели.
Все эти смешные ухаживания скрасили скучную в общем-то жизнь нашего ресторанчика. В своем старинном словаре Татьяна нашла выражение whippersnapper, то есть тот, кого драть надо, и стала звать так Митча. Это было не точно, куда больше его хулиганской душе шло прозвище Беда. Вслед за Татьяной и американцы стали его так звать.
Видя Татьяну, Митч просто не мог оставаться спокойным. Переполняясь эмоциями, он то пускался в пляс, то пел, то вытворял что-то еще. Однажды, не зная, что еще отчебучить, он встал перед ней в боксерскую стойку и сделал вид, что хочет ударить ее, как своего добряка-дамми. Татьяна не растерялась и огрела его по голове легкой сковородой, что была у нее в руках. Удар пришелся прямо по макушке, сковорода звонко загудела, и все, кто был вокруг, просто попадали от смеха. Хохотали до слез, и Митч вместе со всеми. Татьяна же, смущенная, убежала на улицу.
В тот же день, пару часов спустя, Митчу был доверен массаж ее плеч. Татьяна к тому времени уже поняла, что ничего особенного в этом нет, но все же, когда Митч коснулся ее, она стояла выпрямившись, как палка, напряженная, едва ли получая какое-то удовольствие. Было ясно, что она лишь чувствует себя чем-то обязанной за то, что осрамила своего ухажера. Скоро она решила, что с него хватит и стряхнула его руки. Потеплевшие их было отношения вскоре были нарушены еще одним событием.
Окончание следует
Если вам нравится наша работа — поддержите нас:
Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)