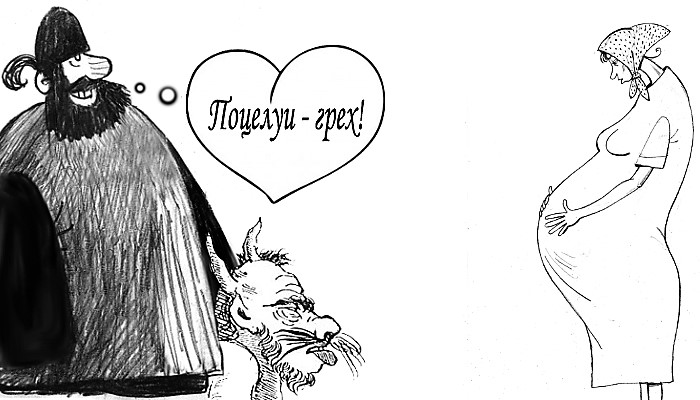Точка бифуркации (окончание)
5 июня 2022 Александр Ладыгин
Начало см. тут.
Она отдернула занавеску, закрывающую кровать. На столике около нее стояла дымящаяся кружка, судя по цвету жидкости, с кофе, но аромат был какой-то незнакомый. Печка уже топилась, в ней трещали дрова, а на плите тоже что-то шкворчало, жарилось. Спиной к ней у плиты стоял он.
Он стоял у печи спиной к ней и жарил яичницу. Услышав шорох за спиной, обернулся. Они встретились взглядом. Ей показалось, он улыбнулся.
«Что же мне теперь с тобой делать, чемодан ты мой без ручки?» — невесело подумал он…
Путь третий
Они: план эвакуации
«Как пряму ехати — живу не бывати — нет пути ни прохожему, ни проезжему, ни пролетному.
Налеву ехати — женату быти; направу ехати — богату быти.
Хочешь сохранить честь богатырскую — не езди налеву!»
Русская былина, другая интерпретация.
«И заблудились во лжи, и в собственных чувствах,
Он тебя-таки убьет, но в самом финале,
А пока дыши весной злой с кем захочешь.
Он твой мальчик, ты его девочка,
Он обманщик, да и ты не припевочка.
Он перепутал, ты растерялась,
Сонное утро долго смеялось».
Припевочка
«Люта, как преисподняя, ревность;
Стрелы ее — стрелы огненные;
Она пламень весьма сильный».
Песнь песней, 8:6
Он проснулся от того, что ощутил боль в правом боку, чуть пониже последнего ребра. Боль была такой резкой и явственной, что он подумал — может, это еще и рак печени в придачу? Коньячок-то он любил в свое время… Он даже задрал майку, чтобы посмотреть, что там такое — действительно, чуть выше шва от аппендикса было аккуратное круглое красноватое пятно, но никаких новообразований больше не прощупывалось. Окончательно проснувшись, он сел на банном полке и прислушался: кажется, была проблема гораздо серьезнее, чем боли в боку, какого бы они ни были происхождения.
В его снежной пустыне становилось слишком людно: снизу по реке кто-то ехал на моторке. В такие тихие серые апрельские деньки, как этот, звук разносился по воде очень далеко. Километрах в 70 ниже по реке был поселок сплавщиков леса. Вернее, когда-то был, теперь тут почти не осталось нормального леса, а уж тем более — сплавщиков. Остатки экспортного архангельского леса давно по реке не сплавляли, его вывозили трелевщиками по зимнику. Но поселок остался, и там доживали те, кто не смог или не захотел уехать, жители его пробавлялись кто чем. В основном, люди потерянные, маргинальная публика.
Ехать вверх по течению реки 70 километров — это часа четыре, смотря какой мотор, конечно. Но все равно получалось, что выехали еще ночью. Значит, либо совсем спьяну, либо сильно надо. Сюда? За каким, спрашивается, лешим? Кроме его деревни тут ехать было решительно некуда.
«Похоже, это по твою душу», — сказал он, заходя в дом.
«Или по наши души», — подумал, но вслух не произнес. У него закололо в груди от нехорошего предчувствия. Можно было бы спрятаться и переждать непрошенных гостей, в деревне было еще много крепких, но заброшенных домов. Увидели бы замок на двери, поискали, да и уехали бы обратно. Но накануне выпал свежий снег и все следы были бы сейчас на виду.
Со стороны все выглядело паршиво. Молодая девчонка. Одна. Наедине со взрослым мужиком. В избе об одну комнату. Месяц уже живет. А кругом — никого. И в деревне, куда он редко, но ходил на почту, это знали. А раз знали в этой деревне, значит, могли знать и в другой. Тут все все про всех знают. С одной стороны, взрослая, делает, что хочет. С другой, общественное мнение, конечно, не на их стороне. Любовь, говоришь? А пачпорт покажи… Да и с женским полом тут был дефицит. За себя-то он эти полгода не боялся, ему терять было нечего, а вот она…
Это со стороны. А в жизни все было по-другому. Он ее боялся. Он ее избегал. Боялся запачкать реальностью этот хрупкий образ, который он себе нарисовал и который, конечно же, не был живым теплым человеком. А живая, она была совсем не такой.
Да, они могли сидеть до двух часов ночи и яростно спорить о проблеме перцепции субъекта в акте перцепции в контексте трансцендентальной метафизики Канта, но до сих пор не дотронулись друг до друга. Она смотрела на него глазами, полными ожидания, а он не смел даже взять ее за руку, не то, что…
Случилось то, о чем он даже мечтать не мог и даже лучше, но теперь это совершенно обесценивалось, потому что у них просто не было времени и он просто не имел права ее к себе сильнее привязывать. Но было видно, что именно это и происходит.
Это был язык тела: их руки метались, только чтобы не остаться наедине друг с другом на столе — если она их клала на скатерть, он их тут же прятал. Их взгляды пересекались и тут же отводились в стороны, словно следы трассирующих пуль в ночи, словно прожектор ПВО пытался выловить в ночном небе бомбардировщик, а тот стремился спрятаться в облаках. Установить дистанцию. Это первое, что казалось ему необходимым. В тот же день, после переправы через реку, он переехал жить в баню.
Да, он водил ее на лыжах по окрестным лесам и полям, показывал следы зверей, пару гнездящихся воронов и их брачные полеты и крики (весна все-таки), водил к лисьей норе, и, подложив рукавицы и сидя на лыжах на вершине холма, они наблюдали за жизнью их семейства. В бинокль было видно, как вечерами взрослые лисицы приносили лисятам то куропатку, то зайца, то мышь. Лисята уже начали выбираться на поверхность и щурились на ярком солнечном свете, отражавшемся от наста. Пара взрослых лис в дреме лежала в сторонке, прикрыв глаза и укутавшись пушистым хвостом. Все это было прямо под боком, буквально на краю деревни, где жил человек. Звери тут доверяли ему.
Иногда они выбирались подальше — на большое озеро с островами, которое все еще было полностью подо льдом и можно было идти по нему, куда хочешь, блуждать в проливах между островами, не боясь заблудиться.
Но когда они возвращались в деревню, то пути их расходились — он шел в свою баню, она — готовить ужин в большой дом. Она всякий раз смотрела на него, словно провожала взглядом, и хотя он не видел выражения ее лица и глаз, но чувствовал две жгучие стрелы в своей спине. Ели они вместе. Вечером готовила она, довольно вкусно, особенно учитывая его небогатый ассортимент продуктов. Завтраком обычно занимался он, потому что она была не жаворонок, а скорее наоборот, и любила поваляться за занавеской в нише у печи. Но для него это была запретная зона. Она жила здесь как туристка. Он как будто сдавал ей дом.
Он любил вставать затемно, затопить печку, баня была старая, щелястая и за ночь ее здорово выстужало. Выходил на берег реки за водой. Утренние сумерки всегда были его любимым временем. Когда никого еще нет, когда не завертел круговорот повседневных забот, дел, встреч, печалей — хронотоп свободы от повседневности. Когда можно еще урвать у дневной суеты целый час или хотя бы полчаса на то, что тебе любо — да хотя бы просто посидеть у окна с кружкой кофе (который ему, правда, было теперь нельзя…).
Здесь, в деревне, он часто именно так и сидел, как сидят старики на лавочках и смотрел на реку. Да, собственно, по всем обстоятельствам он и был старик — смертная тревога уже вплотную подступила к горлу, а именно это и определяет состояние возраста человека — его отношение к смерти. Торопиться ему было некуда.
Сейчас по реке медленно плыли редкие льдины, иногда они сталкивались или ударялись о берег, обламывая его ледяные закраины, иногда несколько льдин сплеталось друг с другом, снова непредсказуемо расходясь через несколько сотен метров. Иные плыли вместе дальше, вниз по реке, чтобы рано или поздно исчезнуть, растаять, пристать к другому берегу, или быть вынесенными в Белое море…
Он сидел на берегу, вдыхал запахи желтой прошлогодней травы, появившейся на проталинах, талой воды, словно вздыхающих, и прямо на глазах оседающих снегов. Хотелось закурить и вдохнуть еще и этот запах. Смотрел и думал: странные мы, люди, существа — вот как эти льдины — встречаемся на течении жизненном, сталкиваемся, расходимся, снова сходимся или расстаемся навсегда, нас закручивает каждого по-своему эта круговерть. С одной стороны, кажется, что это хотя и естественное, но хаотическое движение, с другой, его внутреннее чувство восставало против аналогий с беспорядочным броуновским движением, в котором люди — бессмысленные молекулы. В этом хотелось отыскать хоть какой-то смысл. Десятки женщин, встреченных на жизненном пути, красивых и не очень, умных и глупых, смешных и дурех, веселых и скучных, с которыми дружил или просто сталкивался по работе и жизни, проходили мимо. И никогда не было такой тоски, такой нужды, такой внезапной и горячей привязанности. На большинство из них он даже не смотрел серьезно, не засматривался в отношении проявления каких-то чувств, всегда был верен жене. Никогда даже не поцеловал другую женщину. Такой вот мастодонт. Что же произошло сейчас? Или это просто гормоны, кризис среднего возраста, бес в ребро? Но гормоны — это такой же хаос, ничего не объясняющий по сути. Какой высший смысл в том, что именно его бросило именно к ней, именно теперь? Ответов, как всегда, не было, пустое серое небо, отражающееся в реке, молчало. Набрав воды, он пошел обратно к избе.
Приключение нравилось ей все больше и больше. В избе было уютно и аккуратно. Он любил порядок, время у него было, он не махнул на себя рукой и не пустился во все тяжкие, как многие безнадежные больные, поддерживал чистоту в доме, расчищал дорожки от снега, топил баню. Все было основательно обжито. В сенях на полках был разложен двухмесячный запас продуктов. Иногда он ее баловал — готовил что-нибудь вкусненькое. Однажды сбегал в поселок и принес оттуда целый рюкзак мороженой корюшки — знал, что она любит — по случаю продавали рыбаки с Белого моря. Небольшие серебристые рыбки были совершенно одинаковые, словно прошли ОТК на заводе, такие твердые от мороза, что когда он высыпал их в таз, раздался стук, словно от деревяшек. Он сам ловко чистил ее, быстро делая надрез за плавником и за жабрами, выдергивая одним движением все внутренности вместе с головой. Корюшка лежала ровным рядком на сковородке в желтом масле. Жарить надо было до образования корочки цвета… цвета… «Как твои волосы», — учил он ее. Солить перед самой готовностью, чтобы соль не вытянула лишний сок из рыбы. Ни в коем случае не накрывать сковородку крышкой, чтобы корочка не отмокла и не запарилась, а получилась хрустящей. В жареной корюшке все вкусно, но особенно две вещи — икра и хвостик. Икра немного вязнет на зубах и отдельные мелкие икринки перекатываются на языке, ее жуешь, словно кашу. А хвостики, те хрустят, как семечки. Их-то в первую очередь, когда рыбку берешь, и откусываешь. Потом снимаешь тонкую поджаренную корочку, сворачиваешь трубочкой, она легко отделяется, и сразу эту трубочку — в рот, и икорку туда, она тоже отдельным твердым язычком таким розовым вынимается. И вот это все жуешь уже медленно. Хорошо с черным хлебом идет, когда он есть. Но тут, на Севере, его только в большом городе найти можно. Вместо хлеба он обычно лепешки пек, прямо на той же сковородке, что и корюшку. Оттого они немного рыбой припахивали, но это только больше вкуса придавало. А так-то свежая корюшка огурцами пахнет.
Корюшку она любила и научилась ее правильно жарить по его рецептуре. Вообще, он умел и любил готовить, особенно, если для другого. У него много своих рецептов было. Это ей тоже нравилось, казалось необычным для мужчины. А она делала омлет с икрой — у них такой семейный рецепт когда-то был. Ей все здесь нравилось — и корюшка, и эта заброшенная деревня, заснеженные сосновые леса, озера подо льдом и острова на них, походы в лес, живность, населяющая окрестности, которую он ей показывал, рассказывая обо всех, как о своих близких соседях в большом многоквартирном доме. Ей нравились их разговоры и споры по вечерам у керосиновой лампы. Казалось, он мог говорить на любую тему, ему было все интересно. Немного не хватало интернета, ее поломало пару дней, но она быстро нашла замену информационному вакууму в созерцании природы, чтении журналов и разговорах с ним. Ей казалось, что это была полнота жизни, которой у нее никогда до этого не было.
Его пустыня, внешняя и внутренняя, были разрушены, сметены ее появлением. Все, что он так долго и кропотливо выстраивал эти долгие месяцы, весь строй жизни, даже мелочи быта, все теперь лежало в руинах. Надо было заново обустраиваться в этой тесной избе с одной комнатой. С самого начала все было как-то неопределенно, недосказано, не ясно… Зачем она приехала, как нашла его, и какой, собственно, план? Он любил жить по плану. Хоть какому-то. Сейчас плана не было, был хаос. Хаос в мыслях, в чувствах, в отношениях, в быту. Все как-то не складывалось. Они были сплошной глобальной антиномией, как пассажиры в купе поезда напротив друг друга — вроде и вместе, а по сути порознь. Сошлись на время перегона из пункта А в пункт Б, и вот, уже собирают чемоданы, чтобы выходить. И зачем тогда что-то начинать, если все равно скоро конечная станция? Но разве не вся жизнь — такое купе на перегоне из пункта Рождение в пункт Смерть? И зачем тогда вообще раскладываться?
Знала ли она про карциному? По его внешнему виду нельзя было сказать, что он чем-то сильно болен. Ну, похудел, да, так и деревенский образ жизни организм подсушивает. Его, правда, все чаще тошнило, прямо выворачивало наизнанку, но обострение как раз совпало с переездом в баню, так что она ничего не заметила.
Она знала. Это практически единственное, что сказал ей про него Вадим — что он тяжело болен и поехал, как он выразился, зализывать раны. Без подробностей, но дал понять, что все очень серьезно и лучше бы тебе, девочка, оставить его в покое. Однажды ночью, выйдя на улицу из душной избы, она услышала, как его рвет на пороге бани, и поняла, что слова Вадима про зализывание ран были чересчур оптимистичны. Он сюда не для этого сбежал. Ей не нравилась его подчеркнутая отстраненность. Хотя она до конца не отдавала себе отчет в том, зачем она сюда ехала, ей казалась, что должно произойти что-то необыкновенное в их отношениях. Но этого не было, ничего не происходило, кроме душевных, но невинных вечерних посиделок. И не могло быть.
Странно, но она, такая городская девочка, отнюдь здесь не скучала. Она взяла на себя заботы по уборке дома, стирала своими, уже давно потерявшими даже следы маникюра, руками, его одежду. Иногда ходила на реку за водой. И это ей нравилось. У Вадима была большая библиотека, правда, в основном журналы 90-х годов. Оказалось, для нее это был совершенно неизведанный пласт литературы и даже культуры. Она запоем читала, устроившись у окна, поближе к печке. Днем она иногда бегала на Хиж-гору по проложенной лыжне, с трудом ловила там интернет, скачивала какую-то музыку, под которую иногда, на кураже, крутилась в медленном танце в избе, когда он уходил к себе. Однажды он это случайно увидел через освещенное лампой окно, и с тех пор задерживался перед сном на крыльце бани, ожидая повторения, так это было красиво и даже завораживающе. Музыки отсюда не было слышно и он мог только догадываться, что именно она танцевала в полутемной избе в одиночку. А может быть музыки не было вовсе и то была внутренняя потребность ее тела и души.
В этот раз ее танец был словно приглашением, будто она знала, что он на нее смотрит из темноты. Он мысленно представил себя на месте ее партнера. Медленное начало, знакомый ритм, сначала ненавязчиво, словно издалека, но потом все быстрее и быстрее — кастаньеты. Выход на середину. Лицо в лицо. Рука к руке. Глаза в глаза. Вступают скрипки. Поворот, поддержка. Глаза широко открыты, но смотрят ли они на партнера? Голова к плечу. Прямая спина, прямой взгляд, почти в упор, как на одной из тех ее фотографий, в театре. Кого ты представляешь на моем месте? А ты? Так не смотрят на человека совершенно чужого. Так смотрят на того, кому дарят танец. Так не касаются временного попутчика в купе поезда дальнего следования. И так не сбивается дыхание от равнодушного взгляда в коридоре — от тебя сразу в пол. И так не колотится сердце, когда чужой сидит в комнате, дверь которой ты открываешь, чтобы войти и спросить что-то не значащее.
Ее движения казались хаотичными, потому что ему была видна не вся картина, а только отдельные ее кадры — словно сцена освещалась вспышками стробоскопа, когда она появлялась в проемах трех фронтальных окон дома. В этом танце слышалось что-то кубинское, какие-то латиноамериканские ритмы… Широкий шаг. Раз-два-три, подкрутка. Казалось, что ритм, тему, состояние и слова этого танца она придумывает на ходу. Со стороны это превращалось из танца с партнером в соревнование или даже борьбу с невидимой тенью. Кто был этой тенью? Он? Или она боролась сама с собой?
В конце прохода у окна резкая остановка, снова поворот. Вызывающе вздернутое плечо, насмешливый взгляд вполоборота, прямо на него, через окно, мгновение они смотрят друг на друга и снова: поворот головы, подбородок к плечу. Раз-два-три, раз-два-три, раз. Ритм и скорость движений учащались. Глаза в глаза, лицо в лицо. Но не его ладонь крепко сжимала ее длинные пальцы. Слишком быстрый для него ритм, он начинал задыхаться. Там, перед ней, был другой. Другой смотрел в ее темные зрачки, другой вел ее в танце. Для другого она танцевала. Так ему казалось отсюда, с той точки, откуда он все это подсматривал. Он повернулся и вошел в свой склеп — в темное нутро холодной бани. Это был не тот курс, он повернул не на тот румб.
Он всегда уходил. Уходил в свою дурацкую баню. Так завелось с первого дня. Они не обсуждали это и не устанавливали правила, просто так само получилось с самого начала. Наверное, так было лучше для всех. Но это было немного обидно, это было немного не то, на что она рассчитывала. Она вышла на середину комнаты. Медленно развела в стороны руки, наклонила голову к плечу, словно прислушиваясь к той мелодии, которая звучала только для нее где-то внутри. Быстрый перестук каблуков. До него как до Луны. Бесконечная дистанция, которую невозможно сократить. Это дистанция времени. Но и держать ее невозможно. Отсюда рождается ритм. Ритм бесконечного преодоления, ритм погони. Рука отстукивает его по бедру. Раз-два-три, раз-два-три, раз… Скрипки, бешеный лет смычков. Канифоль, осыпаясь, шуршит по струнам. Три шага вперед, поворот, шаг назад. Корпус вперед и сразу снова назад. Руки, руки — над головой. Разворот шеи, спина пряма, походка расслаблена, хищный изгиб руки… Голова немного кружилась, все смазывалось в движении — окно, печь, лавка, стол, лампа, и снова — окно, печь… Возникло чувство какой-то легкости, едва ли не полета. Но полета в одиночестве, в молчании, в темноте. Это была конфронтация, то ли побег, то ли погоня, но кто кого догонял и от кого убегал, в этом танце было не разобрать, так все слилось в сплошном вихре ее движений.
Она словно излагала свою жизненную позицию — поступала только так, как хотела. То была дерзкой, то покорной. То не отпускала его от себя, то заигрывала и сама старалась подчинить. То шла под венец, то бунтовала. Это была румба. Румба посреди русской зимы. Сотри меня, смотри на меня, останься. Она словно выражала то, что невозможно было выразить словами.
Но внезапно дыхание ее сбилось, она качнулась назад, тут должна была быть поддержка партнера, но ее не было, она споткнулась, упала на кровать, задернула занавеску и беззвучно расплакалась.
Последний луч. Как фотограф, он знал правило: не уходить с точки съемки до самого последнего момента — часто бывает так, что все небо затянуто облаками, а то и дождь идет, мрачно, сыро, никакой надежды сделать интересный кадр. И вдруг, в последний момент, как в день Дурина, перед тем как закатиться за край земли, солнце пробивается сквозь облачность над самым горизонтом и окрашивает и эти мрачные тучи, и весь унылый за минуту до того пейзаж, в фантастические цвета заката, или даже появляется удивительная вечерняя розовая радуга, а еще реже — зеленый луч. Она была таким последним лучом на его закатном горизонте.
***
Однажды они увлеклись — в лесу было так по-весеннему тихо, солнечно и тепло, что они сбросили куртки и шли в одних рубашках на лыжах по рыхлому снегу, не раздумывая о времени и направлении. Блеклое апрельское небо над головами, первые проталины на южных склонах островов посреди озера, на которых можно было найти прошлогоднюю сладкую и терпкую бруснику. Крик желны где-то в глубине леса. Они ушли необычно далеко и теперь было понятно, что засветло вернуться уже не успеют.
В этой части большого озера он еще не бывал и ориентировался плохо. Разрядился телефон с навигатором и пришлось возвращаться не напрямки, а по своему собственному следу, который петлял меж небольших озер и лесистых островов, по сосновым гривам водораздела. Солнце садилось, подмораживало. Он решил все-таки срезать путь по льду озера, но они вышли не на ту гриву и окончательно заблудились. Темнело медленно и в сумерках они разглядели на одном из островов то ли избушку, то ли рыбацкий сарай. Оказалось, часовня. В хорошем состоянии. Видно, что люди ее поддерживали. Внутри чисто и даже прибрано. Делать было нечего — местность была совершенно незнакомая, след он потерял. Решили заночевать. По крайней мере, не под кустом. В часовне было сухо и даже как-то уютно. Чувствовался слабый аромат воска, сухого дерева, горьковатый привкус смолы. Зажгли тонкую недогоревшую коричневую свечу из натурального воска, которая стояла в песке на деревянном подсвечнике. От этого маленького, слабого дрожащего огонька сразу стало как-то по-домашнему уютно и словно потеплело. Последний огонек, последний луч солнца.
Перед тем, как укладываться, он вышел на крыльцо — над замерзшими озерами, там, где вставал тонкий серпик молодой луны, разгоралось северное сияние. Сзади скрипнула дверь, подошла она. Первый раз за все время их знакомства дотронулась до него, положив голову на плечо. Она же была высокая… Он вздрогнул от этого такого естественного домашнего жеста и крепко взял ее за руку. Они молчали. Над их головами шло фантастическое представление: в полной тишине сворачивались и разворачивались красные, фиолетовые, бледно-зеленые всполохи. Небо свивалось и развивалось, словно гигантский свиток Торы. Где-то очень далеко, едва слышно, лаяли собаки, да за гребнем холма изредка ухала неясыть.
Глядя на ночное небо над головой, он снова задавал себе проклятые вопросы: почему именно эти две молекулы мирового человеческого бульона пришли во взаимодействие, а миллионы других ежедневно пролетали мимо, не оставляя в душе никакого следа? Почему именно она, в общем, ничем особо не примечательная, вызвала в нем такое сильное и глубокое чувство? Так звезды во вселенной сошлись? Звезды ответа не давали. Ответ давала ее теплая рука, лежащая в его ладони.
Ночевали на полу, прижавшись друг к другу. На улице был заметный минус, температура в маленькой часовне не сильно отличалась от наружной. Он притащил внутрь несколько камней, которые откопал из-под снега на берегу озера и нагрел в костре. Теплыми камнями обложились с боков. Вывернули внутрь рукава курток, состегнули их вместе и залезли в этот мешок ногами, сверху накрылись домотканными ковриками, которые лежали на полу часовни. Сквозь тонкий свитер он чувствовал все ее худое дрожащее тело. Его щека касалась ее волос. И неожиданно беззвучно заплакал от нежности и полной невозможности этого счастья. И понимания того, что у него нет на него никакого права. Последний луч, скоро багровое солнце скроется за его горизонтом и начнется зима. Единственное, чего он может быть сейчас хотел больше всего — чтобы эта холодная ночь продлилась как можно дольше. Но движение солнца невозможно остановить, так же, как и движение времени. Он же не был Иисусом Навином…
Она лежала спиной к нему с закрытыми глазами и не шевелилась, притворяясь спящей, еще не веря своему счастью, но и не торопя его, с наслаждением вдыхая его запах — дыма, дегтя, мозолистых рук, немного примеси бензина и свежего снега. Она чувствовала его дыхание на своих волосах. Ей казалось, что это только первый шаг — это, может быть вынужденное обстоятельствами, но все-таки первое, такое тесное объятие, что впереди будущее, такое одновременно интересное, уютное и веселое. Настоящее приключение.
Так они и протряслись от холода до рассвета, потом, не глядя друг на друга, пошли обратно в деревню по своему старому следу. Она шла позади и улыбалась ему в спину.
Это было вчера. А сегодня…
До подхода лодки было еще минимум полчаса. Он решил перестраховаться. На случай нештатных ситуаций у них с Вадимом была договоренность, что из деревни приезжает знакомый егерь на снегоходе. Он добежал на лыжах до вершины Хиж-горы и отправил смску: «Требуется срочная эвакуация!» Посмотрел в бинокль на реку — большая черная лодка медленно поднималась вверх по течению, лавируя среди крупных серых льдин. В лодке сидело двое. Почти никаких вещей не было видно, значит не охотники. А вот ружье было. На носу, судя по экипировке, сидел явно не местный.
На пороге, весь мокрый, стоял ее Максим. Он никогда прежде не видел его, но сразу понял, что это ее жених — высокий, мускулистый парень в удобной городской одежде. Он держал дорогое охотничье ружье, ствол которого ходил ходуном — руки его тряслись, то ли от холода, то ли от напряженности момента. Он направил ствол в его сторону, но затем перевел свой взгляд на ее худую фигурку, вжавшуюся в промежуток между стеной и белой печью. Ствол медленно качнулся и уставился ей в живот. Он услышал масляный звук взводимого курка и бросился между ними. Выстрел!
Пуля пробила печень, разорвала селезенку и застряла в позвоночнике. Ноги сразу стали ватными, и тело, будто чужое, рухнуло, как подкошенное, навзничь, голова ударилась об угол печки. Раскинулись в стороны руки, словно встречая чье-то объятие. Это была тяжелая свинцовая пуля Бреннеке 12 калибра весом 30 грамм. При попадании в позвоночник она расплющилась, а войлочный пыж-обтюратор, оторвавшись, застрял во входном отверстии раны, чуть выше шва от аппендикса, прямо под нижним ребром. На полу, быстро впитываясь в некрашеные серые доски, словно смешиваясь с ними, растекалась черная кровь. Она дико закричала, но не от боли. Черная кровь, черная река, черная вода, пронеслось у него в голове, прежде чем он провалился в черную дыру безсознанья.
Она закричала не от боли. А от страшного выражения лица Максима. Вернее, от выражения его глаз. Они были совершенно пустые, лютые, белые. Он отбросил ружье, шагнул к ней и, схватив за руку и вывернув ее, повалил на пол, прямо в его кровь, которая сразу перепачкала ее белый пуховый свитер. «Ах ты, недотрога…» — прошипел он злобно. Звякнуло об пол и покатилось под кровать золотое колечко.
На улице крупными хлопьями шел снег, скрадывая и так небогатый набор здешних звуков. В открытую дверь быстро наметало. Слышно было, как каркнул ворон, пролетая над деревней. Каркнул и, словно сам испугавшись этого звука, нырнул, сложив крылья, в чащу леса. Снеговая туча, надвинувшаяся со стороны Красной Ляги, погрузила комнату во мрак, трудно было различить, кто лежал, кто сидел, прижавшись спиной к печи, и раскинув в стороны руки. Можно было различить только неясные очертания трех призрачных тел в неестественных позах. Было совершенно тихо, только где-то под столом еще что-то капало на уже заметенный снегом пол. Резко пахло кровью и нагретым железом, и почему-то ананасом и дыней, на печке захлебывался кипятком чайник.
Судя по толчкам, отдававшимся болью где-то в районе поясницы, носилки быстро куда-то несли. Или это были не носилки? Несли на брезентовой упаковке от лодки, двое. Над головой проплывали мокрые ветви ивовых кустов. Потом они исчезли, и было видно только тяжелое небо с низкими, быстро бегущими с запада тревожными облаками — западный перенос, почему-то подумал он.
На снегу за ними оставалась красная дорожка, брезент пропитался кровью и стал скользким и липким, руки скользили по нему и пару раз они уронили свою ношу в снег. На этом месте остался красный отпечаток, словно тут проползло какое-то гигантское животное и прижалось к земле своим безобразным чешуйчатым брюхом. Донесли до берега реки, погрузили их в лодку и вернулись к своей моторке за веревкой. На них падал снег, кружась и заметая след от избы до берега реки. Уже и так сильно подтаявшая ледяная закраина, на которой стояла его большая деревянная лодка, под тяжестью двух тел подломилась, лодка обрушилась носом в воду, подняв столб брызг, ее подхватило течение, закрутило на стремнине.
Максим закричал и бросился обратно, но было уже поздно, лодку выносило на стрежень, толкало в борта редкими льдинами. Она быстро наполнялась водой — за зиму доски рассохлись, растрескались, в бортах обшивки были видны щели. Максим бешено дергал стартер мотора, но тот никак не заводился, его спутник тоже что-то кричал и отталкивал его, но они все равно уже не успевали — лодка с двумя телами быстро наполнялась водой и тонула вместе со своим страшным грузом.
Земля была разделена пополам черной рекой — берег правый, берег левый. Они были посередине, в промежутке между мирами.
Как они перешли реку? Они все пришли сюда, на этот берег. Все-все были здесь, его покойники: мамин последний взгляд из-за закрывающейся двери больничной палаты, когда там что-то вдруг громко запикало и к ней побежали сестры; Сашка, весь желтый и опухший, и еще не ведающий, что и мертвый он будет плакать под дождем на кладбище; Женька, в черные кудри которого забился снег и лед лавины, и которые шевелил ветер, когда они его откопали на склоне вулкана; Володька, утопленник, про него лучше не надо; Петя, спившийся и тоже страшный, весь синий, но сейчас улыбающийся чему-то. Чья-то ладошка с длинными тонкими пальцами и ярким маникюром весело и озорно махала из задних рядов. Узнав, он помахал в ответ. Все, кого он проводил, и кто ушел самостоятельно или в одиночку, все они были здесь, перед ним. Они молчали, но вид их был какой-то… обнадеживающий, что ли?
Он чувствовал их, это не были призрачные тела. Он ощущал их тепло, их дыхание, их плоть, гладкость кожи, мягкость волос. Они все стояли на том весеннем поле, под теплым дождем, который так преобразил окрестные леса, напитав их живительной влагой. Кость к кости и плоть к плоти. Покрытые кожей и жилами. Живые.
Наконец-то они были свободны и были вместе. Все — вместе! И не было тут ни мужского пола, ни женского, и все они были одно… И не было уже никаких преград, и границ, и условностей.
Поднимался ветер. Там, где они стояли, на всем огромном поле, снег растаял от весеннего дождя и обнажились сухие стебли прошлогодних трав. Она тоже была здесь и протягивала руку, но на ней уже не было кольца, как в том его сне. Здесь все уже было совершенно реально. Он схватился за эту маленькую, теплую, крепкую крестьянскую руку и обернулся:
… они стояли там, внизу, у реки, два мужика — Максим и тот пьяный охотник, который привез его на лодке из деревни, из Усть-Почи, что в низовьях реки. Стояли в конце страшного кровавого волока на снегу и держали пустой заскорузлый брезент. Но смотрели почему-то не на них всех, сюда, а в черную воду реки. Там что-то белое и рыжее крутилось медленно на течении, среди льдин, погружаясь и исчезая в темных водах. Это его уже не волновало. Планировать больше ничего было не нужно, времени больше не было.
В качестве эпилога
Путь четвертый, былиной не предусмотренный
Он проснулся от того, что последний закатный луч солнца пробился сквозь шторку затенения в окне скоростного поезда Франкфурт — Фрайберг, который бесшумно вылетел из тоннеля на простор холмистой равнины. Она тоже зашевелилась в противоположном мягком кожаном кресле бизнес-класса этого комфортабельного вагона. Ничто больше не беспокоило их сон. Мягкость хода поезда, красивый немецкий осенний пейзаж за окном. Поезд шел на огромной скорости. Она положила свою руку на столик. Он мягко накрыл ее ладонь своей.
Во Фрайберге ее ждала магистратура в местном университете, он открыл фотостудию и был уже завален заказами. Мансардная квартирка, не съемная, а своя, в этом тихом университетском городке у подножия Альп, дополняла идиллию их семейного уюта.
Немного портила картину желтая баночка метилфенидата в боковом кармане пиджака. Он слышал, как в такт раскачиванию вагона там перекатывались розовые таблетки, ударяясь о пластиковую стенку банки. Спящая красавица в хрустальном гробе — это был он. Один на миллион. Синдром Клейне-Левина. Таблетки немного помогали жить в нормальном рабочем ритме, но не могли полностью отделить в его сознании реальность от сновидений. Вот и сейчас он, закрыв глаза, лежал, откинувшись на кресле и пытался понять, где он сейчас — в реальности или это снова иллюзия его больного мозга.
Они несли ее на скользком брезенте в резиновых перчатках и одноразовых костюмах, чтобы не оставить свою ДНК на теле. Перчатки были скользкие и пару раз они уронили свою ношу. Хорошо, что была глубокая осень, а не зима, со снегом, на котором так хорошо видны все следы и все дела. Мокрая листва скрадывала шаги, и на земле, в мягком ковре дубовой листвы пустынного дачного поселка не оставалось никаких следов. Тело надо было уложить на обочине, чтобы имитировать несчастный случай. Потом проехать мимо на машине и оставить тормозной след. Мало ли что бывает темной ночью в дачных поселках… Местная полиция не стала бы особо шевелиться. ДТП, что поделаешь. Все там будем.
Огромная московская квартира в высотке-сталинке, занимавшая целый этаж, с видом на Кремль, доставшаяся ей по наследству от деда, генерала НКВД, была и оформлена на нее — на его жену. И это был пропуск в тот, другой мир, в маленький тихий университетский городок у подножия Альп, подальше от этих сверкающих во мраке красных звезд. Но она этот пропуск выдавать не хотела. Потому что ее мир был здесь. Но он не был его миром. Их миры давно уже не пересекались. Тогда-то и пришел ему в голову план бегства. Но он понимал, что одному ему не справиться. Нужен сообщник, который примет и согласится с его решением, поймет его мотив, и поможет исполнить план, а, главное, будет заинтересован в благополучном исходе. И такой сообщник был. Вернее, сообщница.
Он снова открыл глаза и посмотрел на противоположное пустое кресло. Он ехал один в отдельном купе бизнес-класса. Ничто больше не беспокоило его сон. Мягкость хода поезда, красивый немецкий осенний пейзаж за окном. Поезд шел на огромной скорости по долине Рейна.
Во Фрайберге он пересаживался на местный поезд до Цюриха. А там… там его ждали в частной клинике Цолликерберга с видом на Боденское озеро — последнее, что он собирался увидеть по эту сторону своего окна. Его организм никак не хотел умирать, а уже надо было, засиделся. Он смотрел на свое отражение в окне вагона. Медленно поднял исхудавшую за месяцы отшельничества в лесу и прогрессирующей болезни руку. Коснулся переносицы, провел вверх по горбинке носа ко лбу. Постучал по нему длинным указательным пальцем и подмигнул им всем. Всем им… Все они были здесь, его фантомы. Его призраки. Его фантазии. Все непредсказуемые траектории судеб персонажей его снов. Порождения его разума, его мозга, быстро разрушаемого болезнью. Он хотел к ним, они звали его, ему было с ними хорошо. Скоро так и будет.
Фото: geofotoput.ru
Если вам нравится наша работа — поддержите нас:
Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)