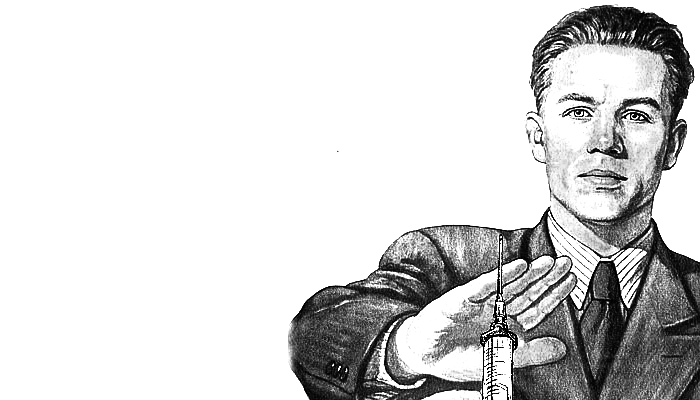Война кончилась и некому больше убивать его сына
8 мая 2024 Михаил Пришвин
Из дневников.
11 марта 42 г.
…Мы все теперь знаем и на фронте и в тылу, какая это мерзость война. И так как теперь во всем мире война, даже в Индии и на тех островах, где живут райские птицы, то мерзостное чувство распространяется на весь мир: нигде не лучше нашего, и райские птицы, наверно, если к ним хорошо присмотреться, так же гадят и непременно кричат и дерутся, как наши вороны. Теперь остаются нам только заповедники для пустынного житья. И если только останусь жив после войны, то выпрошу себе у государства клочок земли в Кавказском заповеднике, выстрою себе там домик и поселюсь навсегда.
17 марта 42 г.
Вечером приходила докторша и высказалась о возможности победы Гитлера. Этот пессимизм происходит от угнетенности набором: берут туберкулезников, калек, белобилетников.
21 января 43 г.
Страшенный мороз. Огромная утренняя, как солнце, луна и звезды при ней бледные как бисер.
Пришли газеты от 17 января с победой под Воронежем и др. Наш политик высказал нам такие свои соображения. Это победа не случайная — о ней если не знали у нас, то надеялись. Так почему же такие уступки Америке, как признание религии и погон (!).
А еще, помните, как перед Рождеством обрадовались у нас церкви, как заговорили о благовесте. А церковь на деле и теперь не открыта, и разговор об этом снова затих. Не напоминает ли вам это время дружбы с Германией, официальной дружбы, и тоже некоторые тогда этой дружбе, как сейчас церкви, обрадовались, потихоньку же шепотом, с губ передавалось другое.
Одним словом, прошлый год надеялись на Германию, теперь надеемся на Америку, и в то же время побаиваемся, как бы и с Америкой не вышло то же, что и с Германией.
16 июня 44 г.
Отец Иоанн. Ляля, как землеройка, копалась в земле возле решетки и вдруг бросилась к моему окну: — Отец Иоанн! — Я увидел, возле наших ворот шел старичок в скромнейшей штатской одежонке, в мятой шляпе. Это был о. Иоанн из церкви в Филиппьевском переулке, у которого я говел, когда мы с Лялей сошлись. — Зови его! — сказал я. — Отец Иоанн! — крикнула Ляля и сама себя испугалась. Ляля пошла к нему и все рассказала. А я второпях надел куртку с орденами, которые меня часто спасают в Москве при поездках на автомобиле от милиционеров. — Вы не смотрите, батюшка, на мои ордена, — сказал я. Мы обнялись. Ляля просила его нас навещать. На своей бумажке он записал мое имя. Тем все и кончилось, но вечером в постели Л. сказала:
— Ты заметил, что он нас записал на бумажке?
— А как же…
— А я думала, ты не заметил.
— Старый человек. Такого человека надо героем считать: вышел священником из такого времени.
— Да, конечно, только все-таки надо бы знать, — каким способом он вышел. А впрочем, Гаврила Алексеевич о нем очень хорошо отзывался.
Мы продолжали разговор:
— Рузвельт все-таки в молитве своей не упомянул Христа.
— Довольно и Бога…
— Нет, не довольно, боги же бывают разные, и Гитлер тоже ведет именем Бога. Только в Христе истина.
— Так что же, хорошо это, что Рузвельт упомянул в молитве Бога?
— Не знаю, увидим.
22 Декабря 44 г.
Когда Фадеев был секретарем ССП, к нему в кабинет пришла Софья Вас. Перовская просить за сестру, обвиненную в содействии немцам, когда они пришли в Пятигорск. Увидав Перовскую, Фадеев встал сам и, не приглашая ее сесть, спросил:
— Как вас пустили?
— Сама вошла, — ответила Перовская. И рассказала о деле сестры.
— Она должна была умереть у фашистов, — сказал Фадеев.
Да, она не хотела умирать, но она и не помогала немцам: ее обвинили напрасно.
— Она должна была умереть, — повторил Фадеев и откланялся.
19 Января 45 г.
Пробовал зайти в церковь, правда, без особенного чувства, только на минуточку, перекреститься. Нищих было длинная аллея, а в церкви битком, толчея и тоже много убогих, кто трясет головой, кто без остановки бормочет. Было тяжко глянуть, тяжко вздохнуть. Но в то же время нельзя было осудить и просто уйти на свободу. Если бы просто выйти, вдохнуть воздух с белого свежего снега, и все бы, как раньше — нет! Ведь это было бы мое чисто скотское «я» при лимите в 500 р., при чудесной жене и здоровом желудке: а завтра отнимут лимит, умрет жена, заболит желудок, попробуй тогда вдохнуть воздух со снега! А то, что я видел в церкви, похоже на ад, но этот сознательно принимаемый на себя ад находится в каком-то прямом отношении к аду, в котором живут все, весь народ, и народы, и весь мир.
1 Февраля 45 г.
День хорош, мороз маленький, тихо, свет обнимает каждый дом и все хорошее показывает, а мы от этого радуемся, на плохое сами не глядим.
…Показалось начало разгрома Германии. И вот вспомнилось начало революции, погром благополучия, в котором жили и хорошие люди. Так жалко было хороших людей. Моя «Кащеева цепь» началась из души, из необходимости нравственной оправдания их. Страшнее того, что было, казалось тогда, нет ничего на свете, и что это только нам так, а в культурных странах этого быть не может. И вот пришли немцы, показали себя. А теперь вот то самое страшное, казалось, только наше, теперь к ним пришло.
Я одно время мечтал, что мы придем в Германию и покажем себя как джентльмены. Теперь странно представить, как я мог это думать. Кто мог бы после немецкого погрома России настроить армию русскую на великодушие и милосердие. Разве Сталин. И вот теперь только видишь, как мало может сам Сталин, как сам он связан, назовем это хоть «волей народа», или потребностью — самой живой — солдата послать жене своей немецкие туфли. Так и разрешено теперь, это и значит, разрешено грабить.
9 Мая 45 г.
День победы и всенародного торжества. Все мои неясные мысли о связи живых и мертвых, поэтические предчувствия, все, все это, чем мучится душа, разрешается в двух словах: «Христос Воскрес!» Всем, чем ты мучаешься, Михаил, этим и раньше мучились люди и разрешили твои вопросы: «Христос Воскрес!»
На радости я привел машину и повез своих в Пушкино. По мере того, как всенародная радость больше и больше накоплялась в воздухе, Ляля больше мрачнела и злилась. На даче она принялась свеклу сажать, и на слова мои: вот бы чайку попить, ответила: — Хочется что-нибудь сделать, а тут носись с тобой. После она мне говорила о том, что ее возмущает народная радость, что надо плакать, а не радоваться. — Нет, — возражал я, — хороший человек, услыхав о конце войны, непременно должен радоваться: ведь миллионы жен, отцов, сестер сейчас радуются безумно тому, что их близкие теперь останутся в живых.
— А кто же подумает о мертвых?
— Мы же потом и о мертвых подумаем. Ты представь себе отца, у которого двое сыновей, один недавно погиб на войне. Отец в тревоге ждет каждый день, что придет известие о гибели второго сына. И вот приходит известие, что война кончилась и некому больше убивать его сына. Его сын останется жив. Тогда отец, конечно, забудет о мертвом на какое-то время и душа его будет заполнена целиком радостью о живом. Так вот и мы теперь ликуем о живых. И я не верю в то, что кто в этот день, ссылаясь на мертвых, не хочет радоваться о живых — что такой человек ближе к Богу.
10 Мая 45 г.
Инженер Овчинников удивился, когда я сказал, что не был на Красной площади, а ездил в лес. — Не понимаю, — сказал он. — Как же вы не понимаете, — ответил я, — мне хочется быть одному, думать про себя и встречать удивленных людей, а не толпу. Мне хочется встретить друзей, а не орать затверженное вместе с толпой. — Не понимаю! — повторил он твердо, как убежденный, воспитанный комсомолец-общественник.
Борис Дмитриевич приходил и рассказывал нам, что последние дни он ежедневно писал сыну на фронт, чтобы он, может быть, в эти свои последние дни каждый день имел связь с отцом. И когда узнал, что кончилась война и сын останется жив, он бросился бежать к людям и разделять с ними свою радость. Ек. Як., жена его, однако, заплакала. — Что ты, — спросил он. — Да что Дима (убитый сын) не с нами. — Вот видишь, — вставила Ляля, — заплакала женщина о мертвом сыне, а не обрадовалась. — Нет, — ответил я, — она сначала обрадовалась, и до того обрадовалась о живом, что и покойника вспомнила, и заплакала о покойном от радости о живом. — Было время, — сказал я Бор. Дмитр., — поэт говорил: «И так, вспоминая милых умерших, мы плыли дальше, втайне радуясь сердцем, что сами остались в живых». — Вот видишь, — ввернула Ляля, — поэт говорит: «втайне», а у нас явно радуются за себя и втайне за умерших. Я не хочу таких праздников. — Они и не такие, — ответил я, — в «Одиссее» таких событий не бывало, как наша война. Наше время до того сдавило всех нас, что будь с нами Гомер, он теперь бы так написал: И так, на короткое время забыв об умерших, мы все вместе орали от радости о том, что сами остались в живых.
15 Мая 45 г.
Радуница. Окладной теплый дождь. Деревья позеленели за один теплый день, но сквозь эту зелень видны окна домов. Вчера ходили ко всенощной. У жертвенника все священники, дьяконы, дьячки одновременно поминали умерших и к ним присоединялись все, кто хотел тоже и своих помянуть. Впечатление от этого бормотания получалось такое, как будто чан кипит и бурлит: это сваривали в единую цепь всех умерших с живыми. Одна женщина стояла в стороне и глядела, молясь, в свое поминание. Это была целая книга, ею тщательно выписанная.