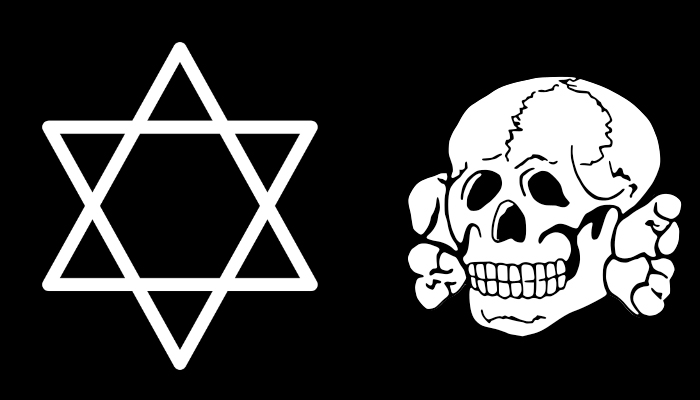Женщина для Георгия (окончание)
27 января 2019 Анна Скворцова
Окончание, начало читайте тут.
***
Писатель жил в окружении умных и красивых женщин, они восхищались им, а он благосклонно миловал то одну, то другую. Но в этом восхищении было желание обладать. Когда они начинали претендовать на его ум и сердце, он лишал их своего расположения. Катя по видимости ничего от него не хотела, редактировала его книги, благородно отказавшись от денег, ей всегда можно было поручить куда-то съездить, что-то забрать, лишь иногда, чтобы не сорвалась с крючка, привозить ей в подарок, допустим, пакетик оливок. Но за выступлениями и презентациями писатель часто забывал покупать для Кати сувениры, вспоминал об этом лишь в последний момент в аэропорту и спешно хватал в duty free тряпичного медвежонка с вышитым сердечком на грудке. А тут вдруг выйдя из ванной, замотанный в махровое полотенце, благоухая миндалем, он налил себе «Johnnie Walker» двенадцатилетней выдержки и, закусив кусочком лимона, подумал: а не свозить ли Катю Париж?
Надо же показать этой чудаковатой восторженной даме, которая так хорошо умела слушать его, в нужных местах поддакивая или вздыхая, что он гораздо круче ее христианского Бога, который за все подвиги и труды награждает только лишь пасхальным яичком, тогда как он, известный русский литератор, может дать ей прогуляться по набережным Сены, мостовым Латинского квартала и на фасаде Нотр-Дам де Пари посмотреть на знаменитых уродцев.
Ах, как он любил этих девочек со внешностью провинциальных библиотекарш, их фанатичную преданность и всегдашнее желание помочь! Скажешь такой: отдай мне свою почку, — не моргнув глазом, ляжет на операционный стол. Но зачем писателю столько почек сразу? Он представил множество упругих красноватых шариков, похожих на куриные желудочки, только больше размером, как он деревянной лопаткой мешает их на сковородке, а потом поедает с гарниром из вермишели. В древности считалось: съешь плоть врага — получишь его силу. А какая сила у этих женщин? Они готовы на жертву. Вот что писателя бесило и выводило из себя — устаревшие категории добра и зла, застывшие в их головах, тогда как он сам давно делил все кругом лишь на «приятное» и «неприятное».
Приятно было получать гонорары. Приятно было навещать поклонниц, напустив на себя неприступный вид, смотреть, как молодится ради него престарелая дива, сидеть, постукивая перстнем по столешнице, бросая на хозяйку многозначительные взоры, чтобы она дрожащими от волнения руками роняла ложки и рассыпала заварку. Катя заваривала ему элитный чай с каплями ямайского рома, и всякий раз перед его приходом ездила за пирожными в Сергиев Посад, заодно поклоняясь мощам преподобного; только там, на фабрике, можно купить натуральные, а в Москве везде сплошная синтетика.
Он допил чай и начал прощаться. Вышли в коридор. Катя смотрела, как он надевает купленные в Швейцарии ботинки, привезенные из последней поездки — его книгу переводили на немецкий язык. Лампа смутно освещала поцарапанные кошкой обои в цветочек, под ними сохранились газеты еще семидесятых годов, дверцу шкафа, закрытую на гвоздик (трогать нельзя, отвалится — не вернешь на место), и стоящий у стены велосипед.
Писатель надел пальто, снял шапку с руля велосипеда и обмотался шарфом. По пустым дорогам он быстро доедет до дома, включит компьютер и забудет о Кате. Она проводит с ним мысленно почти каждый вечер, а он и не подозревает об этом, сидя, уткнувшись в монитор, у себя на пятом этаже возле метро «Битцевский парк». Сейчас застегнется, повесит сумку на плечо, шагнет за порог, вот и все. Но перед этим будет еще дружеское объятье.
— Рад был повидаться, — сказал он, прижимая Катю к себе.
Сквозь шелк блузки она ощутила жесткую ткань пахнувшего шерстью пальто. Мгновение — и надо оторваться, иначе это выйдет за рамки приличий, медлить нельзя, пора отступить назад, люди пугаются сильных чувств, если не могут на них ответить. И Катя разжала руки, боясь заплакать, понимая, что слезы испортят все. Он примется ее утешать, досадуя, что связался, а потом найдет себе нового редактора, не склонного к слабостям и истерикам. Но всякий раз Катя мечтала, что однажды он вдруг передумает уходить, сбросит пальто и останется до утра. Швейцарские ботинки не надо расшнуровывать, там сбоку молния — раз и все.
Иногда он звонил, почему-то по ночам: похвастаться успехами, пожаловаться на врагов, в те минуты казалось, что он лежит рядом на широкой постели, его голос лился Кате в самое ухо. У нее затекала держащая телефон рука, но она не решалась пошевелить пальцами, чтобы не спугнуть это дивное виденье — птицу счастья с сияющими перьями, залетевшую к ней в Бирюлево. Катя так и засыпала, прижав телефон к щеке, а утром возвращался с дежурства Георгий, шел на кухню, открывал холодильник, глотал из пакета кефир, потом отправлялся в магазин с брезентовой сумкой. Катя водила его в театр и на вечер поэзии, но из всех видов искусств ему оказались близки лишь кино и цирк, да еще немного развеселил океанариум. «Почему эта рыба такая плоская?» — спрашивал он Катю, ухмыляясь, тыча пальцем в стекло. «Чтобы удобней было переворачивать ее на сковородке? А у этой отчего такой тупой нос? Она что, стукнулась о подводную лодку?»
Вечерами по средам Георгий надевал старый армейский камуфляж, поплевав на расческу, причесывался перед зеркалом в ванной и с торжественной сосредоточенностью отправлялся на заседания своего клуба. Заседания проводились при храме Архистратига Божьего Михаила, розового с золотыми куполами, отпугивающими шипами на крестах обнаглевших голубей, изгадивших однажды Георгию всю машину, когда он, припарковавшись под навесом, зашел перекусить в «Теремок». И как такая мерзкая птица может символизировать Святой Дух? В трапезной расчищали стол, смахивая с клеенчатой скатерти крошки, зажигали лампаду в углу, и суровые мужчины садились в ряд, кладя перед собой натруженные руки. На занятиях изучали жития святых воинов, героические эпизоды русской истории, а когда темнело, то запирали церковные ворота и практиковали во дворе приемы рукопашного боя. Не одним же мусульманам быть воинственными. По ходу обучения у Георгия возникало множество вопросов. Почему, например, в одном месте Евангелия Христос говорит: «Не мир я пришел принести, но меч», а в другом — «Взявший меч, от меча и погибнет»? Он решил: что-то напутали в этой древней книге, а руководитель хвалил его за любознательность и говорил, что он — на пути к вере.
Но вера без дел мертва… И как-то раз несколько крупных широкоплечих мужчин, пройдя твердой поступью стогны и площади Нового Вавилона, проследовали в книжный магазин и расположились в зрительном зале, где намечалось возмутительное мероприятие. По виду они совсем не походили на любителей литературы. Лучше бы они пошли сниматься в кино, сыграли бы стрельцов или опричников, ходили бы в длинных армяках и шапках с меховой оторочкой, сжимая в руках отточенную секиру. Жаль, что никто не надоумил их съездить на Мосфильм, заработали бы там немного денег в массовке, как раз хватило бы на пиво с воблой, разгрызли бы ее могучими челюстями, перемолов косточки, оставив чешую на газете, а потом запели бы про коня, которого хозяин уже столько лет куда-то ведет по полю. Но пива не было. Мысли их оставались трезвыми и злыми, глаза хмуро смотрели на сцену, ноги в высоких черных ботинках нетерпеливо переминались на паркете, хрустя половицами, мясистые загривки медленно наливались кровью.
Несмотря на грозный вид, намерение мужчин было благородно. Они собирались сорвать презентацию опасного для общества романа, где про русских было сказано, что они — генетически испорченный материал, и именно он должен был дымиться в печах Освенцима. Георгий нашел эту книгу в красно-коричневой обложке на столе у Кати, полистал, опустил в мусорное ведро, пошел на заседание клуба и сообщил фамилию автора. Сначала он хотел сжечь эту книгу в бочке на церковном дворе, там, где сжигают поминальные записки, но усомнился: можно ли класть подобную гадость на бумагу, побывавшую в святом алтаре? Георгий решил при случае спросить об этом священника, а пока, сидя в зале, массировал кисти рук, брови его то и дело съезжались к переносице, челюсти были крепко сжаты, он позабыл даже об опасении сломать коронку. Была у него одна, слева в верхнем ряду, из американской металлокерамики, которой он очень стеснялся, потому что принципиально пользовался вещами лишь российского производства.
Но писатель пришел в зал в сопровождении охраны. Он все более дерзко выступал против существующего режима, но в случае угроз в свой адрес непременно обращался в полицию. Было приятно дразнить левиафана, щекотать ему ноздри и тянуть за хвост, главное — успеть вовремя отскочить. А то раздастся звонок в дверь, потом — обыск, наручники и камера предварительного заключения. Или придется скрываться от ареста в лесу, питаясь консервами и сухарями, тогда как писатель предпочитал рестораны французской кухни и не садился за стол без бутылочки аперитива.
Люди в форме выстроились вдоль стен. От их массивных фигур веяло надежностью и мощью. Писатель снял очки, зная, что без них его глаза особенно беззащитны. Кроме того, так лучше заметен их цвет, подходящий по оттенку к серому пиджаку из тонкой шерсти, купленному в Мюнхене на распродаже. Писатель придал голосу как можно больше задушевности и начал рассказывать о том, как его преследуют. Совершая по утрам пробежки в лесопарке, он постоянно встречает подозрительных личностей, словно сошедших со страниц его романа. Недавно нищенка у метро швырнула ему вслед икону преподобной Матроны, которая превратилась в бумеранг и подрезала ему на ноге ахиллесово сухожилье. Другой раз рабочий в оранжевом жилете тянул провод из канализационного люка, а увидев писателя, сделал лассо и попытался на него набросить, чтобы утянуть вниз, в преисподнюю. Ведь русский человек по природе своей — агрессор.
Присутствие охраны спасло писателя от народного гнева, и к нему выстроилась очередь за автографами. Георгий вцепился в подлокотники кресла, суставы его побелели, лицо сделалось багровым, почти как обложка злополучного романа. Гнев, подобно молодому вину, грозил разорвать мехи и без того изношенного сердца. За спиной его жертвы — служители закона! Они пришли не для того, чтобы сопроводить нелюдя в казематы, где бы он сидел за решеткой в ожидании Страшного суда. Они берегут его от возмездия, когда ангел мщения уже занес над ним карающий меч. Этот прожорливый вурдалак присосался к телам титанов, что держат на плечах своды русского дома, пьет их кровь и жиреет, и ему невдомек: рухнет дом — и его придавит обломками. В довершении беды Георгий вдруг вспомнил, что уже видел этого человека. Вернувшись чуть раньше с работы, он застал его у себя дома в прихожей, когда тот надевал ботинки, а Катя провожала его, стоя у дверей. Даже в их семью просочилась эта плесень, надо вычистить ее и обдать место кипятком.
Георгий прошептал сидящему рядом приятелю:
— А если бы меня поставили бы его охранять? Я бы ему голову разбил и мозги по асфальту размазал. Нужно поступать, как Родина прикажет, или как совесть велит?
— Конечно, как совесть велит, у власти же сейчас масоны. Только мы, как псы Господни, за Святую Русь. А этого, — приятель кивнул на сцену, — еще достанем, у нас его адрес имеется. У подъезда подкараулим и напомним о нравственных ценностях, чтобы видел впредь в людях больше хорошего.
Наступил Великий пост. Георгий даже начал воздерживаться от мяса, хотя по-прежнему не верил в Бога. Он копил в себе духовную силу для решающей битвы со злом, своего личного армагеддона, на стороне Третьего Рима против мирового апокалипсиса.
Они по очереди дежурили возле дома писателя. Рядом строился торговый центр, площадка была не до конца огорожена, Георгий нашел удобный наблюдательный пункт — за бетонными плитами, которые защищали от ветра. Под ногами хрустели осколки стекла. Он брал с собой складной стул, бутерброды и термос с чаем, сидел, разглядывая мусорные контейнеры, катушки с проводами и кучи песка. Писателя выслеживали по утрам и вечерам, когда люди обычно уходят или возвращаются, а на стройке не бывает работ. Стоял конец марта, грачи ковырялись в земле возле ржавой бочки. Георгий нагнулся, чтобы поправить гольфы, которые врач прописал ему носить от варикоза, подобрал обломок кирпича и швырнул в птицу. Удар получился метким, он подбил ей крыло. Это хорошая примета, может, еще подморозит. Его задубевшая кожа не ощущала холода. Георгий любил зиму, а грачи своим появлением возвещали об ее окончании.
В эти дни у Георгия пропала жена. Они собрались ехать в деревню, сели в автомобиль, но машина не завелась. Георгий стал звонить в сервис, приказав Кате добираться одной на электричке. Но с дороги Катя позвонила, сообщила, что поедет в другое место, чтобы он ее не искал, она вернется и все объяснит. Похоже, это тактический ход, она хочет уйти от него к кому-то другому, образованному, кто умеет болтать по-иностранному. Вот если бы Георгий тоже умел… Знал бы какие-нибудь вражеские заморские словечки. Оно бы и родине пригодилось, когда начнется война. Да и местность надо загодя изучить, куда наши танки поедут. Карты, конечно, есть, но лучше глянуть все самому, сделать вылазку с Катей под видом туриста. А теперь ее уже не вернешь… Он бы все условия ей создал, от домашней работы избавил бы, пусть сидит с книжкой в углу, крысе только иногда водичку меняет. Он даже готов временами послушать стихи, главное, не набраться всяких культурных выражений, а то потом мужики засмеют. Видать, плохо ей было с ним…
Георгий не мог находиться дома, видеть ее вещи, и все чаще отправлялся на место наблюдения. Ведь они собирались там компанией, можно было отвлечься, сыграть в карты, поговорить о футболе. Писатель куда-то исчез, они даже стали забывать о нем, держа в памяти лишь график дежурств, который человек в посыпанном перхотью пиджаке рисовал им на аккуратно разлинованной бумаге и вешал на стену клуба.
Катя, как послушная жена, рано утром села на переднее сиденье автомобиля, поставила на колени корзинку со съестными припасами, протерла запотевшее стекло и стала ждать, когда Георгий отвезет ее к своей маме. Накануне, правда, Катя позвонила писателю, спросила, каким рейсом он летит, купила билет, но тут же раскаялась. Однако билет возврату не подлежал. Катя решила, что пусть пропадают деньги. Но заглохший мотор она восприняла как знак, тем более, у электричек был перерыв, зато у платформы готовился к отправлению экспресс в Шереметьево. Так Катя ехала в подмосковную деревню, а оказалась в международном аэропорту. Ожидая самолета, она смотрела, как женщина в платке кормит чипсами четырех одинаковых мальчиков, а смуглый мужчина рядом держит стопку темно-синих паспортов.
Почему же писатель ее пригласил? Наверное, ощутил свою творческую несостоятельность. Пока русская литература была укоренена в православии, она имела мировое значение, оторвавшись от религиозных смыслов, стала провинциальна. Вот писатель и хочет вернуться к истокам, тянется к Кате, чувствуя ее духовную глубину. Надо позаботиться о душе, отравленной адскими газами андеграунда. Возле выхода на посадку Катя прошлась по магазинчикам с модными брендами и на все имеющиеся деньги купила яркое платье с глубокой выемкой на груди, босоножки на каблуке и шелковое белье цвета пасхальной радости, посчитав себя к апостольскому служению готовой.
Париж встретил их теплым ветром, крокусами и круассанами, жареными каштанами и цветущими ветвями бегоний. В городе было много парков, памятников, площадей. Писатель часто останавливался, делал пометки в блокноте, Катя ходила за ним с фотоаппаратом и рюкзаком, где лежал взятый в деревню кусок копченого мяса, на случай, если писателю захочется перекусить. Самой Кате есть не хотелось. «Только вернись — я с тобой поговорю», — сказал ей Георгий по телефону, и Катя представляла его потрескавшийся по краям кожаный ремень с тяжелой металлической пряжкой. Будут ли дома ее искать? Она вообразила свою фотографию в оранжевой рамке на столбах и автобусных остановках. В детстве на Катю уже подавали в розыск, когда она сбежала в Америку свергать режим Пиночета. Интересно, какое выберут фото? Босоножка натерла ступню. Катя с удовольствием переобулась бы в кроссовки, но в разве это обувь для романтических свиданий?
— Как ты думаешь, тираж разойдется? — спросил писатель, когда они сели за столик уличного кафе под серебристым платаном, рядом с красиво припаркованным старинным ландо. — Может, я плохо написал? Не хочется быть графоманом.
— Твои книги тебя переживут, — убежденно воскликнула Катя.
— Значит, я должен умереть как можно скорее?
— Ты еще не раскрыл свой талант.
— Хочешь сказать: моя проза незрела?
— Вовсе нет! Но в твоих книгах нет любви.
— Разве? Там почти на каждой странице занимаются любовью!
— Что это за любовь — с животными и мертвецами!
— Много ты понимаешь в любви! Вот свожу тебя на экскурсию по французским борделям. Захочешь — останешься там на стажировку, поработаешь месяцок аки на монастырских полях, а потом вернешься к своему неандертальцу. Тогда, глядишь, и меня чему-нибудь путному научишь. А про Библию мне не говори, я воскресную школу кончал, знаю, чем «омоусиус» от «омиусиус» отличаются.
— Это слишком сложно для воскресной школы…
— У нас училка продвинутая была. Ладно, что мы все обо мне. Тебе-то понравился мой роман? Знаю, я уже спрашивал об этом. Но, может, тебе открылись там новые смыслы?
И Катя спешно придумывала «новые смыслы», выстраивая вдохновенные фразы, наконец, показала писателю фотографию — молодой человек в метро, облокотившись о поручень, читает его роман. Это должно было служить доказательством его популярности в народе, но снимок был постановочным: Катя попросила позировать себе сына маминой подруги.
Писатель удовлетворенно хмыкнул и одобрительно воззрился на Катю.
— А чего это ты так разоделась? — заметил он, наконец. — У тебя нет с собой чего-нибудь попроще? Какого-нибудь балахона? С этой помадой у тебя губы, как у вампира, сотри лучше, тебе не идет. Кстати, знаешь, как узнать оборотня в человеческом облике? По форме ушей! Вот покажи уши…
Когда ложились спать, Катя быстро разделась и, сдерживая волнение, залезла под одеяло, а писатель, обнаженный по пояс, долго разглядывал себя в зеркале, потом попросил сделать ему массаж. Катя втирала в его кожу лавандовое масло, та становилась блестящей, как у античного атлета перед состязаниями. Катя сидела на нем верхом, разминала его мышцы, ожидая, что он повернется на спину, и начнется самое главное, но писатель пожелал ей спокойной ночи и улегся лицом к стене. На следующий вечер он предложил ей сыграть в шахматы, потом читал вслух статью из «Науки и жизни» о коралловых островах.
«Я сама во всем виновата», — думала Катя, лежа без сна, уставившись в темноту. «Не оставила денег на парикмахерскую, а в облике женщины важна каждая деталь. Платье у меня слишком длинное, оно должно быть на десять сантиметров выше колен, а каблуки, напротив, слишком низки. Как же я не люблю каблуки! Но без них разве полюбят мужчины? А духи… Почему я не купила духи? В сумочке всегда надо носить пузырек, на свидании, когда кавалер отлучится, брызнуть ему на верхнюю одежду несколько капель. Тогда мой запах будет преследовать его, и мысли обо мне сделаются неотступны». Катя прочитала этот совет в книге «Школа охоты на мужчин», которую перед поездкой случайно нашла на полке. Непонятно, кто принес в дом такую «безнравственность», сроду не было у них подобной литературы.
Уже пора было уезжать, они собрали сумки и поставили в узкой прихожей номера одну на другую. Кате казалось, что Джоконда с репродукции на стене смотрит в этот день особенно хитро и язвительно, скрывая в себе бездну разврата. Писатель был задумчив, изредка бросал на Катю загадочные взоры, словно хотел что-то сказать, но не решался, будто бы его томило сомнение, скрытый вопрос. Быть может, запоздалое раскаянье? Но еще не поздно, впереди — целая ночь. Катя нравится ему, но он боится признаться. Надо ему помочь… Катя призывно взглянула на него, чуть приоткрыв халат, немного, не нарушая границы приличия, он и сам мог от резкого движения слегка соскользнуть с плеча.
— Я девочку себе вечером приведу, не возражаешь? — спросил вдруг писатель, крутя на пальце брелок. — Посидишь полчаса внизу?
Катя не поняла и продолжала улыбаться, но постепенно до нее дошел смысл сказанных слов. Она поникла, ссутулилась и в назначенный час покорно спустилась по мраморной лестнице в холл, где возле невысокого столика, покрытого льняной скатертью, стояли глубокие и мягкие кресла. За широким окном расстилался вид на проспект. Солнце уже садилось, было что-то трагичное в расплавленном золоте заката и клубящихся черных облаках. Доносилась музыка из ресторана, Шарль Азнавур пел по-русски про вечную любовь. Мимо прошли двое — мужчина, похожий на принца Чарльза, держал под локоть женщину в платье с обнаженной спиной. Плащ зацепился за ручку, и пуговица, щелкая по мраморному полу, укатилась Кате под ноги. На плаще Георгия тоже не хватает пуговицы. Перед отъездом Катя хотела пришить ее, но не нашла подходящей, а сейчас вдруг вспомнила, что видела точно такую же в мамином футляре для спиц, и как она попала туда? Да, Георгий — не самый хороший муж, но в минуты благодушия он иногда кладет ей на голову тяжелую руку, слегка пригибает вниз и острит, вспоминая армейскую службу: «Мы с Мухтаром на границе». И этой нежности она лишена…
— Терпеть не могу, — сказал ей сегодня писатель, — когда после путешествий остается в карманах иностранная мелочь. На, возьми, может, купишь себе что-нибудь.
Катя высыпала на ладонь пригоршню монет. Если немного добавить, можно заказать на ужин маринованного зайца или жареного каплуна в прованском соусе, о которых она читала в романах. Баранину с тмином и базиликом. Спаржу и устрицы. Бутылку старинного бургундского. Фисташковое мороженое и черничный мусс. Сейчас она пройдет незаметно между столиками, чтобы все не стали на нее глазеть.
«Что за дела?» — подумал писатель, не найдя Катю в условленном месте. «Кто позволил?» — возмутился он, увидев ее в ресторане перед блюдом дымящегося мяса. «Она должна была сидеть и скорбеть. А потом, может быть, я бы ее и помиловал. Должна понимать, что мою любовь нужно еще заслужить. Вон как святые нудили себя, чтобы стяжать любовь Божию».
— Какая же ты молодец, что об ужине позаботилась, — улыбнулся он, устраиваясь напротив. — Я так проголодался, дай-ка мне вон то крылышко…
— Руки убрал.
— Не сердись, милая. Я роман пишу о женщинах легкого поведения. Нужно же изучать материал. Думаешь, легко добиться художественной достоверности? Сегодня мне попался любопытнейший экземпляр…
— Иди дальше изучай.
— Ну что сделать, чтобы ты простила?
— Сам подумай.
— Хочешь, посвящу тебе свою новую книгу? Так ты прославишься на века, станешь загадкой для литературоведов будущего.
— Что мне посмертная слава! Ты мою настоящую жизнь укрась.
— Так я ведь давно являюсь ее украшением.
Писатель подцепил на вилку кусок индейки и впился зубами в пахучую нежную мякоть.
— Мучаешь меня… — ответила Катя, пододвигая ему тарелку.
— Может, ты сама делаешь что-то не так? Нужно нести праздник сирым и обездоленным. Не искать любви, — писатель разгрыз косточку и с присвистом высосал оттуда мозг, — а самой дарить любовь окружающим. А ты даже едой не захотела со мной поделиться, — обиженно заключил он, отхлебнул из Катиного бокала, утерев рот бумажной салфеткой. Потом смял и бросил ее на столе…
— Кстати, окажи милость, у меня завтра встреча со шведами. Давай в аэропорту возьмем такси и сначала меня завезем домой? Надо успеть принять душ и побриться. Не возражаешь? Ну вот, вижу глаза истинной христианки! А то что это было? Распущенность и разврат! Надо заняться твоим воспитанием…
Когда такси подъехало к подъезду, Георгий разгадывал кроссворд, держа карандаш пальцами в шерстяных перчатках, его приятель тайком потягивал из банки пиво: употреблять алкоголь на дежурстве запрещалось. Еще один их товарищ отошел погреться в ближайший универмаг. Из машины вылез писатель, открыл заднюю дверь, выпуская Катю, и достал багажника вещи. Повесив сумку на руку, он обнял Катю, рассеянно коснувшись губами ее щеки, Катя поехала дальше, а писатель пошел к подъезду, посматривая на часы. Георгий толкнул своего спутника, привлекая внимание, тот потушил сигарету, и они в несколько прыжков настигли врага, когда тот собирался скрыться за железной дверью. Ему преградили путь.
— Вы в какой стране живете? — спутник Георгия, рослый парень из казаков, пошел в наступление. — Хотели задеть русских людей? Вам это удалось! Мы сюда пришли. Пойдем, побеседуем.
Он стал оттеснять писателя в сторону стройки, схватил его за руку, тот вырвался, но его успели пропихнуть в щель между двумя металлическими листами, служившими загородкой. Георгий сначала растерялся, бросил взгляд в ту сторону, куда уехала Катя, потом глянул по направлению убегающего врага. «Ты поразишь его в голову, а он будет жалить тебя в пяту», — всплыло откуда-то из глубины сознания. Дьявол отнял у него жену, но по сравнению с интересами Родины — это мелочь. Прежде всего, нужно нагнать и уничтожить супостата. Писатель между тем нырнул в недостроенное здание и, судя по звуку шагов, помчался вверх. В отличие от своих героев, он вел здоровый образ жизни, поднимал штангу, обливался холодной водой, но его мускулатура имела декоративный характер и не годилась для серьезного дела. Георгий стал преследовать его, но вскоре топот затих, видимо, писатель спрятался. Лестница была без перил, вместо окон зияли пустые закрытые сеткой проемы. Георгию казалось, что если отделить запахи пыли, цемента и собственного пота, то местонахождение врага можно определить на нюх — запах серы, смешанный с ароматом дорогого парфюма. Он втянул ноздрями воздух, пробрался тихонько к самой крыше, стараясь не шуметь, сдерживая дыханье, стукнулся головой об электрическую лампочку и услышал, как в углу треснула плитка. Писатель стоял там, прижавшись к бетонной стене. «Как перед расстрелом», — мелькнуло у Георгия в голове.
Георгий подскочил к нему, взревел и ударил в грудь. Изо рта писателя вырвался хриплый звук, дыхание его пресеклось. Второй удар пришелся в челюсть. Писатель закрылся руками, стараясь защититься от обрушившейся на него ярости. Третий удар сбил его с ног. Георгий схватил его за шиворот, приподнял и с силой толкнул вперед. Писатель пролетел по воздуху и с треском ударился о загородку. Она проломилась, и он повис над высотой третьего этажа, ухватившись за металлические прутья. Еще немного, и он упадет, его смерть сочтут несчастным случаем, Георгий отомстит за свою жену, да и книги преступные выходить перестанут. Он подошел ближе, посмотрел на вцепившиеся в перекладину руки и занес ногу, чтобы стукнуть по пальцам. Пальцы порозовели от напряжения, небольшие, они были плотно сжаты, словно на лапках у крысы, когда Георгий прошлым утром скармливал ей дольку апельсина. Тоже ведь хищный зверек… За бока возьмешь — сердце колотится. Тонкие аккуратные пальчики румяно-телесного цвета. Георгий хотел наступить на них и не смог. Он постоял, подумал, схватил писателя за кисти и вытащил на поверхность. Тот лежал ничком на каменном полу и дрожал. Георгий, оставив его, пошел прочь.
День был пасмурный. Толпа людей двигалась к метро, гудели в пробке автомобили. Из урны у подземного перехода тянулся горьковатый дым. Георгий почувствовал: что-то изменилось в городе, пока его не было, краски словно стали ясней. Расплакался ребенок в коляске, какой у нее насыщенно оранжевый цвет, слезы оставляют на щеках влажные дорожки. Мимо провели французского бульдога, черного с белой грудью, и на ошейнике сверкнул серебристый брелок. Георгий брел медленно, с интересом смотрел вокруг, боясь спугнуть новое, возникшее в нем ощущение. Вдруг в витрине магазина он увидал свое отражение — что за солидный и представительный мужчина, на такие широкие плечи не худо бы заиметь офицерские погоны. Вот только как теперь без жены… Он бы даже простил ее распутство. Некогда новую искать, Родина требует решительных действий. Впереди мировая война. Знамя полка тоже бывает потрепанным, но его же не меняют на другое. А после победы сразу вызовут в Кремль, вручат ордена и потом — банкет. Весь комсостав с женами, а он — нет… Непорядок… Все равно, не будет он ее неволить. Разве можно наладить жизнь народа, не устроив толком свою? Он шел задумчиво и уже не глядел по сторонам, ему резко сделалось грустно.
В квартире было душно, давно никто не заходил, последнюю ночь Георгий провел у приятеля. Он открыл на кухне окно, поставил чайник, заглянул в свою комнату и изумленно воскликнул. На подоконнике пестрели малиновым, белым, голубым, сиреневым расцветшие кактусы. Их лепестки раскинулись, прикрыв зеленую мякоть с колючками, которая уже не казалась угрожающей. Распустились все одновременно, когда Георгий перестал ждать и подумывал уже отнести их на помойку, решив, что ничего у него не ладится в жизни — ни брачные союзы, ни разведение растений. А сейчас цветы сияли, словно окруженные шипами драгоценные камни из дальней страны, где знойный ветер разносит песок по прериям и пустыням, где ездят ковбои, плавают пираты, а попугай садится на сундук с золотом, восклицая: «Пиастры!» Там плещется океан, течет рекою ром, и загорелая мексиканка, позвякивая кастаньетами, танцует на столе портового кабака, притопывая каблуком.
Заскрежетал замок. Георгий почти не удивился. Он лежал на диване, закинув ноги в клетчатых тапочках на спинку, и смотрел на цветы, от которых шел резкий тропический аромат. Катя молча уселась на корточках рядом с ним.
— Хочешь — иди к нему, — сказал ей Георгий. — Ты же несчастлива со мной. Я и по-русски пишу с ошибками. Этого не читал… как его… Пастернака.
— Нет, я с тобой останусь, — ответила она. — Сводишь меня в какой-нибудь военный музей. Надо у твоей мамы спросить рецепт пирога.
— Ну… Тогда я, пожалуй, сделаю загранпаспорт. Покажешь мне свою Европу.
Они засмеялись. Вскоре Георгий попал в больницу, и Катя приносила ему завернутые в фольгу домашние котлеты, а когда в ванной сорвало кран, Георгий поставил новый смеситель, но не отечественный, как хотел, а немецкий, фирмы «Кайзер», потому что Катя любила все иностранное.
Читайте также начало истории
Коллаж из картин Валентина Губарева
Если вам нравится наша работа — поддержите нас:
Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)