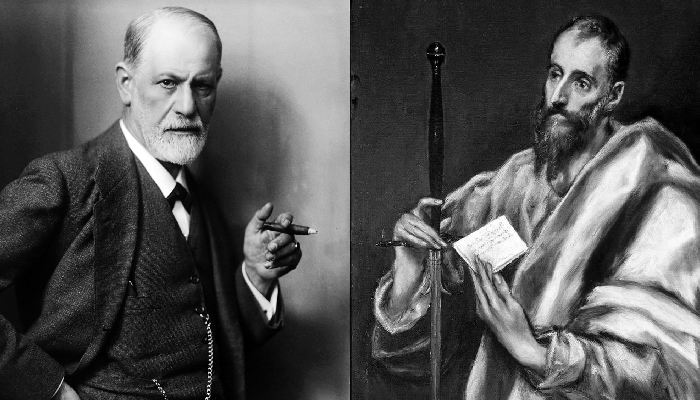«Их жертва не напрасна — за ней грядет светлое будущее»: немецкая пропаганда о жертвах бомбежек
16 ноября 2023 Николас Старгардт
Предлагаем вашему вниманию отрывок из книги оксфордского профессора истории Николаса Старгардта (род.1962) «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945», отрывок из главы «Бомбежки и возмездие».
Никто не знал, как и когда возмездие настигнет неприятеля. Отсутствие подлинной информации о секретном оружии заменили слухи и сплетни: судачили об огромных ракетах и о гигантской пушке с 16-метровым стволом, которую устанавливают на берегу Ла-Манша с целью стереть с лица земли половину Лондона. Даже после годовщины налета тысячи бомбардировщиков напряжение в Кёльне продолжало нагнетаться. 22 июня швейцарский консул писал в рапорте, что обещание «сверхсекретного оружия» разыгрывается в городе как «козырная карта», поскольку надежда на «возмездие» помогает подавить страх от осознания необходимости сидеть на «пороховой бочке». В следующую ночь жертвой налетов сделался Мюльхайм. Ему досталось так, что даже на велосипеде не было возможности ни выехать из города, ни въехать в него. А затем в ночь с 28 на 29 июня — почти через месяц после юбилейной годовщины — вновь настал черед Кёльна.
Тысячи людей потянулись к пунктам первой помощи, расположенным в школах, бежали из рушившихся зданий и бродили среди клубов дыма, золы и искр — повсюду бушевали пожары. В Иммендорфе школьный хронист не находил слов: надо было видеть «беженцев, почти ослепших, с вздувшимися от облаков фосфора глазами, чтобы составить хоть какое-то представление об ужасе той ночи». …
Через день после первого налета швейцарский консул с его связями и возможностями получения данных насчитал по меньшей мере 25 000 человек погибших. Несколько дней спустя благодаря сведениям из «высокого официального» источника он поднял планку до 28 000. Окончательный итог выглядел следующим образом: 4500 погибших и 10 000 раненых в первую ночь плюс 1100 убитых в двух следующих налетах. Нет ничего удивительного в том, что даже осведомленные круги оценивали потери в пятикратном размере: все основывались на масштабах разрушений. Почти две трети населения города — от 350 000 до 400 000 человек — лишились крова. …
Местные вожди партии получили право принимать любые меры, которые считали нужными, и гитлерюгенд, Союз немецких девушек и структуры Народного социального обеспечения устраивали походные кухни с едой для нуждающихся и обеспечивали им временное жилье. Они пытались как-то управлять хаосом, помогая пострадавшим от бомбежек вытаскивать из завалов уцелевшее имущество и содействуя работе аварийно-спасательных служб. Военнопленных из концентрационного лагеря, созданного СС в 1942 г. вблизи от места проведения торговых выставок, отправляли на особо опасные участки — выносить продуктовые запасы из разбомбленных складов и раскапывать неразорвавшиеся бомбы. … Именно пленные выкопали трупы 4500 человек из-под обломков и положили их в гробы, сколоченные в столярной мастерской концентрационного лагеря.
8 июля церемонии по захоронению мертвецов проходили сразу на шести кладбищах, где возле могил, вырытых все теми же узниками концентрационного лагеря, присутствовали представители гражданских властей, аварийно-спасательных служб, вермахта и партии. Westdeutsche Beobachter задавала тон: «Борьба требует от нас сильных сердец!» и «Их жертва не напрасна — за ней грядет светлое будущее». Подобный язык — военная жертва от гражданских лиц — свидетельствовал о снятии табу. Еще только в 1942 г. канцелярия Бормана предостерегала партийные органы от «неверного использования термина „жертва“ (Opfer). Нежелательно признание возможности применения слова „жертва“ в отношении военных усилий на домашнем фронте… Только солдаты на передовой приносят настоящую жертву в истинном смысле слова». Со своим двойным смыслом недобровольной жертвы и добровольной — самопожертвования, немецкое слово Opfer представляло собой краеугольный камень националистического, равно как и национал-социалистического культа героизации погибших за Германию воинов. Весной 1943 г. стало уже неудобно ограничивать круг «павших» только солдатами. Теперь военные награды присуждались гражданским лицам за их деяния во время авианалетов и за успехи в производстве оружия, а погибших хоронили с почестями по образу и подобию оказываемых военным.
Какое бы впечатление ни произвела коллективная акция отдания дани памяти мертвым, оно оказалось лишь временным — все перечеркнула следующая ночь. Третий рейд, хотя и наименее масштабный из всех, произвел наибольший деморализующий эффект. Как установила СД, население едва начало «оправляться от ужаса первых двух налетов, завершая первый этап работ по очистке территории, только стало налаживаться поступление снабжения», когда эта атака «полностью обрушила весь процесс нормализации жизни». Альфонс Шаллер, один из городских партийных вождей районного уровня, призвал сограждан прийти вместе с ним 10 июля на Хоймаркт, чтобы продемонстрировать «среди развалин нашего истерзанного города связь между живыми и мертвыми». Звон колоколов уцелевших пока церквей и залпы зениток послужили сигналом для минуты молчания по всему городу. Собравшиеся на Хоймаркте услышали обращение гауляйтера Гроэ. «Сила сопротивления», «фанатичная воля к борьбе», «конец еврейства» — навязчивые заклинания разносились над площадью бравурным стаккато, улетая прочь и утопая в грудах развалин.
Надо ли говорить, что нацистские вожди сделались объектом критики за полный провал гражданской обороны, а пропагандисты — за неспособность донести до остальных районов Германии горестный плач местного населения. Учитывая всем известный антиклерикализм Геббельса, того особенно поносили за лицемерные причитания по поводу повреждений, нанесенных кафедральному собору Кёльна, о чем он так громко сокрушался. Однако сам по себе посыл вызова врагу нельзя назвать таким уж откровенно непопулярным, скорее наоборот — по крайней мере он то и дело находил отклик в личных письмах и дневниках. …
Швейцарский консул Франц Рудольф фон Вайс видел бездомных, с безучастным взором сидевших на чемоданах возле кухонь, где варили и раздавали суп. Общий настрой жителей он описывал так: «Глубокая апатия, поголовное безразличие и желание мира». …
В городах Рейна и Рура люди продолжали поговаривать об обещанном Геббельсом могучем возмездии, но уже без прежних надежд, как в мае и июне. По меньшей мере в Кёльне никто не верил, что некое оружие спасет их. Гауляйтер Северной Вестфалии Альфред Майер мог сколько угодно призывать кары на врага в ходе публичных похорон у массовых могил, но ближе к исходу июня и в начале июля в городах вроде Дортмунда, Бохума и Хагена утрата веры в своевременное возмездие вынудила сотрудников СД мрачно охарактеризовать происходящее «как войну нервов германской пропаганды против собственного населения». Всегда очень чувствительный к настроениям в обществе, Геббельс призвал пропагандистов к сдержанности в речах.
Пока нацистские власти и церковники каждые по-своему занимались осмыслением бомбежек, некоторые уже изобретенные термины становились аксиомами, а другие оспаривались, но мало кто мог отказать в точности определению Геббельса «бомбовый террор» применительно к кампании британских ВВС. Слова отражали заявленные цели союзников — сломить волю немцев к сопротивлению — и в точности передавали ощущение крайней беспомощности людей, молившихся и дрожавших в сырых подвалах, в то время пока жилые кварталы оседали и горели у них над головами. Однако, если католические епископы столкнулись с большими трудностями в попытках вывести народ из помешательства на мести, партии, в свою очередь, не удавалось, несмотря на все усилия, трансформировать страх и беспомощность во всеобщий вызов врагу. Пышных похорон и военных наград оказывалось явно недостаточно. К тому же нацисты не могли да и не очень хотели превращать гражданских лиц в бойцов или поколебать глубокое убеждение в том, что ведение такой войны против мирного населения нарушало основополагающие моральные границы. Все звучавшие в 1940 г. дискуссии о том, кто первым начал бомбить гражданское население, давно остались в прошлом. Значение сохранило только одно — в состоянии или не в состоянии Германия дать мощный ответ. К началу июля остряки принялись шутить, будто Сару Леандер пригласили в штаб Гитлера спеть свой шлягер из фильма «Я знаю, чудо случится однажды».
Для режима, боготворившего право сильного, «бомбовый террор» создавал угрозу показать слабость и деморализовать немцев. Геббельс особенно старался скрыть истинное число погибших мирных жителей, поэтому СМИ живописали картины разрушения культурных объектов вроде памятников, скрупулезно пересчитывали оскверненные и разбомбленные церкви, а в случае Кёльна подробно передавали перечень повреждений, нанесенных кафедральному собору. Данный способ подачи информации хорошо вписывался в утверждения нацистов о том, будто Германия защищает европейские культуру и наследие перед лицом союзнического варварства. В разбомбленных городах некоторым подобная приверженность к описанию ущерба, понесенного культурными объектами, представлялась «сдвигом внимания от огромного урона в жилом фонде и в первую очередь от людских потерь». Вместо рассказов о кафедральном соборе, как отмечала СД, люди хотели, чтобы в стране знали о том, как им живется изо дня в день: «о необходимости пробираться на работу через груды развалин и тучи пыли, когда не работает общественный транспорт; о невозможности помыться и приготовить горячую еду, поскольку нет ни газа, ни электричества; о ценности одной единственной чудом спасенной ложки или тарелки». Когда горожане бежали прочь от разрушений, они зачастую направляли гнев и ярость в адрес нацистов. Стиснутый со всех сторон в переполненном поезде, который осилил дорогу от Кёльна до Франкфурта едва ли не за двое суток, наблюдательный высококвалифицированный рабочий из Хамма заметил в купе грубо намалеванный мелом рисунок — «виселица с болтавшейся на ней свастикой. Все видят, и никто не сотрет».