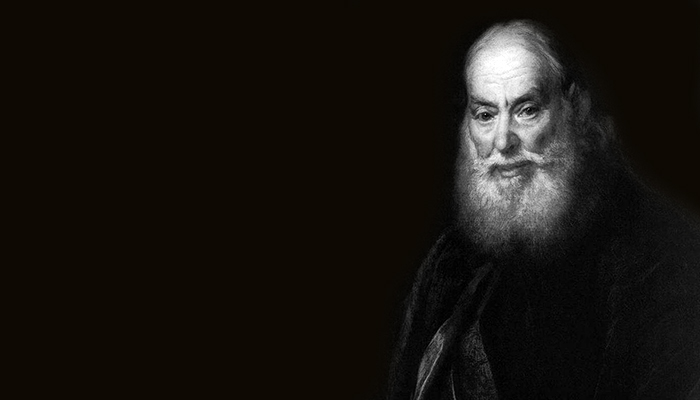Индекс запрещенных сказок
7 июля 2018 Алексей Плужников
«Ох, уж эти сказочки! Ох, уж эти мне сказочники!..»
Предисловие 2018 года
Эта статья была написана давно, так же, как и книга, которая в ней разбирается. Но тема взаимоотношения сказки и религии, конкретно — русского православия, по-прежнему остается актуальной, поэтому вновь публикую этот отредактированный текст с сокращениями.
***
В 2004 году преподаватель Санкт-Петербургского педагогического университета им. Герцена, кандидат наук Поринец Юрий Юрьевич написал книжку под названием «Книги, которые читают наши дети, и книги, которые им читать не следует». На книге стоит благословение архиепископа Брюссельского и Бельгийского Симона, продается она (на момент написания статьи — прим. автора) в церковных лавках. К тому же в аннотации солидного православного издательства «Сатисъ» о книге говорится, что она — «первая в таком роде — представляет собою обширный обзор сказок в мировой литературе. Здесь дается православный анализ духовного и нравственного содержания произведений».
А раз «православно» и «о духовном», то не лишним будет полистать эту книгу, тем более, что ее автор претендует на то, чтобы, по слову редактора, указать «нам те дороги, по которым мы сможем вести наших детей к свету и вере, к честности, верности и надежде, к чистоте и любви» (с.5).
Итак, сказки и сказочники.
Первым в руки кандидата наук попал Шарль Перро. Его сказки характеризуются как не детские, предназначенные скорее для светских салонов. Они отличаются «цинизмом и жестокостью», безрелигиозностью, излишней нравоучительностью, мораль «никак не соотносится со сказкой». Перро, оказывается, «едва ли не восхищается» хитростью и подлостью своих героев (Кота в сапогах, Мальчика-с-пальчик). Его некоторые сказки («Спящая красавица», «Синяя борода», «Красная шапочка») неприемлемы для детей, могут способствовать «возникновению детских страхов» (дети начинают бояться волков)…
Странная характеристика, может, дети подразумеваются с психическими отклонениями? Думается, Поринец несколько преувеличивает.
У братьев Гримм в сказках намешано всего понемножку, поэтому предлагается относиться к ним «с большой осторожностью», так как в них часто «теряется нить повествования», «встречаются откровенные нелепости», бессмысленные финалы. Положительными героями нередко выглядят воры и хитрецы, поэтому «вряд ли эти сказки полезны детям». Так как большую часть своих сказок братья Гримм построили на основе народных, фольклорных сказаний («языческих по происхождению»), то, по мнению Поринца, родителям следует запомнить точный список их сказок, которые стоит давать детям, а которые не стоит.
Вильгельм Гауф — сказочник, оценка которому, по шкале Поринца — «единица с минусом». Сказки его страшны, герои злы и уродливы, дети все будут перепуганы. Красная карточка. Следующий.
«Творчество Гофмана похоже на страшный, болезненный сон, от которого хочешь очнуться, но не можешь. Пробудиться от такого кошмара, освободиться от наваждения возможно только с Божьей помощью. Но для этого нужно к Нему обратиться» (с.35). Даже «Щелкунчик» спросонок не заслужил добрых слов.
Оскара Уайльда читать не рекомендуется, он бунтарь и безнравственный эстет, таковы и его произведения: «Да и стоит ли ожидать другого от автора, для которого, по его собственным словам, порок и Добродетель — материал для творчества. Всего лишь материал» (с. 45). Да и сам Уайльд — всего лишь «материал». Для кандидатской.
Эти авторы у Поринца, так сказать, почти за пределами, «в минусе», православные родители должны лишить своих деток подобной мерзости, прикрыв, правда, глаза на то, что сами с удовольствием читали и слушали в детстве эти сказки, но… «были люди в наше время: богатыри — не вы».
Странно, но Джоан Ролинг с пресловутым «Гарри Поттером» попала в разряд особый: двоечница с плюсом. Вроде бы и хороший мальчик, «и умен, и честен, любит справедливость», в сказке вроде бы «последовательно проводится идея борьбы со злом», но все это, как проницательно увидел критик, внешнее и сомнительное, а в реальности — скучно, затянуто, много страшного, нагнетается ужас, «показана реальность магии, ее сила». «Сила зла выглядит завораживающе. Да и сама идея противопоставления черной и белой магии, на которой держится книга, выглядит сомнительной. Ведь магия и есть магия, как бы красиво она порой ни называлась и как бы привлекательно ни выглядела» (с. 80). Поэтому «Поттер» «опасен для детей», следует вывод питерского литературоведа.
Уважения внушает сам факт, что автор удосужился, в отличие от большинства других православных критиков, прочесть хотя бы пять первых книг. Но он не заметил, что сюжет «не держится» на противопоставлении белой и черной магии — различие в цвете магии заключается лишь в доброй или злой воле тех, кто использует ее. Творение Ролинг держится на противопоставлении бессилия магии перед силой Любви. Жаль, что Поринец не дождался конца эпопеи, в седьмой книге это показано совершенно ясно.
Большинство сказочников попали у Поринца в разряд «троечников»: вроде бы и терпимые сказки, но со многими недостатками, так и быть — «удовлетворительно». К ним относятся:
Джеймс Барри и его герой — «эгоист» Питер Пэн: рассказывая истории про этого удивительного мальчика (любимца, кстати, многих девочек), у которого нет мамы, «желая того или нет, Барри как будто пытается опровергнуть Евангельскую притчу о блудном сыне» (с. 63). И вообще, Питер — это не тот ребенок, «на которого Христос в Евангелии призвал быть похожими всех людей» (с. 64). Согласимся: явно не тот, ибо о Питере во времена евангельские как будто еще и не слышали.
Памела Трэверс, когда писала сказку про Мэри Поппинс, не подозревала, что читать и понимать ее некоторые будут «вопреки замыслу автора». Мэри у нее получилась «отстраненно-холодная, высокомерная, чужая», эгоистка, думающая о себе, что она — «идеал и совершенство», она не знает «неудач и поражений», даже королевская кобра называет ее кузиной и дарит свою кожу. И Поринец задается риторическим вопросом: «а кто же она тогда такая», если она «может все, и даже больше»? Ответ напрашивается сам собой: змея она подколодная, раз сестра — кобра! Родители, спрячьте книжку про сию скользкую даму подальше, эта «барби» не подходит для того, чтобы на нее равняться нашим чадам в платочках.
Туве Янссон и «Муми-троллям» тоже не повезло: несмотря на все старания сказочницы создать уютный мир, он получается серым и тоскливым, а повествование скучным и затянутым. Слабенько, но терпимо — все-таки не страшно и со счастливыми концами.
Из русских сказочников место среди троечников досталось П. Бажову, в сказках которого много литературных достоинств, но он посмел плохо отзываться о «царизме», ругал попов, религию, даже хозяйка Медной горы у него против Церкви. Конечно, идеологическое зло перевешивает художественное добро — нужно, наверно, издавать его сказки с купюрами «наоборот»: в советское время выкидывали все религиозное, теперь же требуется выкинуть все, могущее смутить православных деток, а главное, их родителей.
«Королевство кривых зеркал» В. Губарева единственной своей целью имело «прославление советских людей» и пионеров.
«Три толстяка» Ю. Олеши «перегружены социальной проблематикой, революционным пафосом».
Вообще, «советской сказочной литературе не хватает свободы, она, как правило, не обращается к духовному миру человека, ограничиваясь лишь нравственной областью. Советские сказочники как будто наивно убеждены, что их произведения смогут изменить людей, мир к лучшему» (с. 106). Вот важное слово — «как будто»: советские писатели вряд ли были «наивны», они трезво осознавали, в КАКОЙ стране они живут, и ГДЕ они окажутся, если начнут писать «о духовном мире». Не менее наивно Поринец сам ратует за ту же наивную идею, что «духовные», христианские сказки якобы могут изменить мир.
Казалось бы, что можно предъявить вселюбимому Корнею Чуковскому? Но и у него, оказывается, могут напугать впечатлительных детишек некоторые сцены, особенно из «Крокодила» («даже взрослому читателю при чтении этого фрагмента (про похищение бедной Лялечки — А.П.) становится не по себе»).
В компании троечников оказались Н. Носов, Э. Успенский, Г. Остер, которые начинали хорошо, но потом их сказки «скатились» — у кого в нравоучительность, у кого в развлекательность и угождение вкусам детей.
Кто же сработал на «хорошо» в мировой литературе?
Л. Ф. Баум («Волшебник страны Оз»), Джанни Родари (минус — его социализм), Р. Киплинг (все бы неплохо, но Маугли «груб, мстителен, горд». «Конечно же, это от христианства далеко» (с. 71)).
Астрид Линдгрен, разумеется, талантлива, и ее Карлсон тоже симпатичен, но при этом «порой характер Карлсона, его поступки вызывают у взрослых читателей сказки раздражение», но «сочувствие всех читателей — не на стороне обманщика Карлсона, а на стороне Малыша, с которым Карлсон поступил несправедливо» (сс. 83, 84). Странно, мне попался первый «раздраженный», по фамилии Поринец, а уж на чьей стороне дети — спросите у них: вам ответят, что они на стороне веселья и шалостей, а Малыш, кстати, самый скучный персонаж книги.
Сказки Д. Р. Р. Толкина имеют «христианскую направленность», но полны «двойственности и противоречивости» (сколько же раз в гробу перевернулся великий английский мастер от такой кандидатской фамильярности!), страшные сцены во «Властелине колец» «вряд ли могут оказать благотворное влияние на детскую психику». «Писатель не смог преодолеть трудностей», «несоответствие между авторскими намерениями и данностью текста», книга «перегружена» описаниями, некоторые ее идеи находятся в несоответствии со святоотеческим богословием… И все это при том, что творчество Толкина скорее хвалится, чем осуждается.
Из советских хороши, но не без недостатков, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто (хотя непонятно, что делают детские поэты в «каталоге» сказочников).
А как же «отличники», есть ли претендующие на золотую медаль?
В XIX веке «одним из лучших» был финн С. Топелиус. В своих сказках он «пытался донести до читателей евангельские истины». Птичка у него беседует с Ангелом о назначении художественного творчества, Сампо-лопаренок «прячется в доме священника, который совершает над некрещеным мальчиком таинство крещения. Когда же горный король требует открыть двери, говоря: „Язычники принадлежат мне“, священник отвечает: „Отойди, нечистый дух, дух ночи и зимы, ибо над этим ребенком ты уже потерял власть“. В сказке, таким образом, утверждается сила христианской веры» (с. 46–47). Так и хочется воскликнуть в благостном упоении: «Аллилуйя, братья!» — но только где же здесь сказка? Или крещение, священник, христианство — это атрибуты сказочного мира? Или это просто нравоучительная басня для деток воскресной школы? Нет, считает Поринец, именно это — настоящая сказка. И вместе с ним так думают многие современные «православные сказочники», и пишут, не особо напрягаясь, благочестивую халтуру, восполняя отсутствие таланта «душеспасительностью» своего продукта.
Похвал удостоились Л. Кэрролл с его бессмертной «Алисой», А. А. Милн с «Винни-Пухом», сказки Д. Биссета, К. Грэма, Э. Фарджон с ее сказками, близкими христианству (особо ей ставится в заслугу принятие крещения в 71 год).
«Лучший из ныне живущих сказочников» — немец О. Пройслер:
«Сказки его даже полезны детям. Потому что главные герои у него всегда добрые и вызывают живейшую симпатию читателей.
…В сказках Пройслера нет ничего страшного для детей (с. 87).
…Если же и встречается зло, то оно обязательно побеждается (с. 88).
…Сказки Пройслера обычно заканчиваются праздником (с. 89)».
Но «самое глубокое» произведение Пройслера — сказка «Крабат», где колдуны, чернокнижье, кощунство, Незнакомец — сатана, Страстная Пятница, Пасхальная ночь, параллели с евангельскими темами — то есть опять под «глубиной» Поринец признает наличие религиозных мотивов, но никак не литературный талант автора.
Среди русских отличников — Д. Мамин-Сибиряк, А. Погорельский («Черная курица, или Подземные жители»), С. Т. Аксаков с «лучшей русской сказкой XIX века» — «Аленьким цветочком»; лучший из советских — К. Паустовский.
Во второй части книги собраны христианские или наиболее близкие к христианству сказочники — великий Андерсен (один недостаток — жестокая сказка «Красные башмачки»), главные же достоинства в его сказках — все те же христианские мотивы: упоминания о молитвах, псалмах, благодаря которым побеждаются колдовские чары и злобы. Нынешние эпигоны великого датчанина дополнили этот набор сказочного вооружения благочестивых мальчиков и девочек крестным знамением, святой водой, иконами, батюшками. Получилось довольно мощно, но пошло.
Отличница и христианка — С. Лагерлеф и ее сказка про Нильса с гусями (видимо, Поринец не в курсе, что Сельма была лесбиянкой, а то бы и ей за безнравственной досталось, вслед за Уайльдом).
Близка по духу к христианству и сказка-притча А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Конечно, самые нежные дифирамбы К. С. Льюису и «Хроникам Нарнии».
И венчает христианских сказочников с самой большой золотой медалью «наше все» — Александр Сергеевич Пушкин. Правда, под диван быстренько прячется не вполне удачная сказочка про «попа и Балду»: «ведь священник здесь — жадный, хитрый, глупый» (с. 201). Вдруг наши дети решат, что такие попы в жизни попадаются, да соблазнятся от такой искусительной мысли, и воскресную школу перестанут посещать, а то еще около входа в храм иномарку настоятельскую заметят…
***
Вот те «дороги», по которым родители и педагоги должны повести детей под мудрым руководством Ю. Ю. Поринца. Раньше про советское литературоведение говорили, что оно напоминает строгого учителя, с красной ручкой исправляющего сочинения писателей-двоечников, которые «недопоняли», «не смогли подняться над уровнем своего времени», «испытали на себе влияние» и проч. В таком же снисходительно-фамильярном стиле «сработал» и преподаватель литературы из Университета имени Герцена. Очень грустное впечатление производит сей «труд», как-то потянуло от него удушливым дымком средневековья или Союза советских писателей. Инквизиторы тоже ведь исходили из самых «благих» намерений — оградить доверчивые души христиан от тлетворного влияния тех, кого они (инквизиторы) не способны были понять. А раз непонятно, значит, вредно, а скорее — еретично. На костер-ка их — и книжки, да и авторов на всякий случай, чтобы чего еще вредоносного не намаракали!
Интересно отметить и идею, на которой заостряется внимание в «Предисловии редактора»:
«Нам кажутся такими безобидными, например, сказки о Красной шапочке, маленьком Муке и другие, но, оказывается, это безобидность мнимая, и многое зависит от автора сказки (а речь в этой книге пойдет именно о сказках литературных), который обрабатывал или придумывал сюжет и даже от переводчика, если сказка переводная. Сочинитель, да и переводчик, хотят они того или нет, вкладывают в творение энергию своей души, свое видение мира, свое понимание добра и зла, свою любовь и неприязнь, веру, неверие или теплохладность. Мир сказки — это во многом мир души ее создателя. И воздействие на сердце читателя — в прямой зависимости от того, какого духа ее автор.
Ребенку может быть принесена добрая радость или светлая грусть, но может быть нанесен и вред, ущерб маленькому сердцу!» (с. 3–4).
Это замечание редактора в емкой форме передает основное направление исследования автора: дух сказки и ее влияние на читателя напрямую связано с духом и нравственностью сказочника. А следовательно (делаем вывод уже мы), суд на сказкой превращается в суд над сказочником.
Думается, сама идея об «энергии души», вкладываемой в творение, по сути, упрощает мир творчества до банального: «скажи мне, кто сказочник — и я скажу тебе, стоит ли его читать». Тогда писать сказки, по этой благочестивой логике, должны святые отцы по решению Собора, в крайнем случае, монахи в промежутке между повечерием и полунощницей, чтобы «вкладывать» в сказку веру, любовь, добро да Типикон. А где же творчество и талант? Или литература — это всего лишь добропорядочная Золушка с веником, расчищающая перед читателями дорожку ко спасению? А чудеса-то ведь творила тетушка-фея…
«Изучение биографии автора — самый пустой и ложный путь к познанию его работ, — писал Толкин и добавлял: — Только Ангел-хранитель или Сам Господь могли бы показать нам истинную связь между фактами личной жизни и произведениями писателя».
В «Предисловии автора» к «Властелину колец» великий сказочник пишет:
«С тех пор как „Властелин колец“ был опубликован, его прочло множество людей, и у каждого сложилось собственное мнение о побудительных мотивах автора и „морали“ этой книги. Позволю себе высказать на сей счет свою точку зрения. Первым побудительным мотивом было желание автора испытать себя: а получится ли написать такую книгу, которая захватывала бы читателей, веселила бы их, восхищала, заставляла сопереживать и страдать? Ориентиром мне служили только мои личные ощущения — и вполне естественно, что для других они ориентиром не являются.
(…) Что же касается „морали“ или „скрытого смысла“, в намерения автора не входило вкладывать в текст что-либо подобное.
(…) Сам я на дух не переношу аллегорий во всех их проявлениях — с той поры, как повзрослел и набрался житейского опыта в мере достаточной, чтобы распознать аллегорию под любой маской. Я предпочитаю историю, реальную или вымышленную, которую читатели „приспосабливают под себя“ в соответствии с личными пристрастиями и ощущениями. Судя по всему, многие путают эту „приспособленность“ текста с аллегоричностью; на мой взгляд, различие между ними — кардинальное: первая подразумевает полную свободу читателя, тогда как вторая выражает деспотическую волю автора».
Но Поринец не верит в свободу, он верит в рабскую зависимость читателей от сказочников и, особенно, от кандидатов наук, которые считают, что без них мы не сможем разобраться в тумане сказочного мира.
Несмотря на то, что Поринец сам часто критикует сказочников за чрезмерное морализаторство, в итоге он приходит к тому же: основное достоинство сказки — ее духовность, религиозные, христианские мотивы, прямые упоминания о молитвах, псалмах, даже священниках и таинствах. Главное же, что характеризует достоинство сказки (как и любой литературы) — художественный талант автора — почитается за нечто второстепенное. Категорически не согласимся: сказка потому ценна, что она НАСТОЯЩАЯ — увлекательная, нестандартная, с живыми героями, с интересными перипетиями сюжета — и талантливо написанная. Почему мы так любим «Карлсона», «Винни-Пуха»? Потому, что там каждая строчка гениальна, сказка похожа на творения великих скульпторов, подобно ваятелю сказочник «отсекает все лишнее», чтобы получилось произведение искусства.
Одна из главных претензий кандидата наук к сказкам — наличие страшных, леденящих душу, сцен, которые якобы могут напугать детей. Упрекая за это, например, Толкина, Поринец сам же приводит аргументы английского профессора против своей точки зрения: Толкин «был категорически против переделок народных сказок, в которых изымались страшные подробности. „Не думаю, что мне повредили сказочные ужасы, какие бы мрачные верования и обычаи древности их не породили“, — писал он» (с. 173).
Стоило бы прислушаться к мнению авторитетного ученого. Действительно, не надо пугать деток мешком из-за угла, конечно, нужно беречь психику детей с клиническими отклонениями, но ведь большинство других нормальны. Если Поринец — филолог, то он должен знать, что страшная сказка является одним из наиболее распространенных видов сказки. Дети, трясущиеся на печке или в поле в ночной у костра, но с горящими глазами слушающие россказни про вурдалаков, ведьм, утопленниц, нечистую силу — ведь это укоренившийся образ, не раз воспетый в литературе. Сказочный страх является противоядием от страха перед реальным миром, страшная сказка канализирует, обезвреживает трусливость, воспитывает смелость — дети, наслушавшись сказок про упырей, потом проверяли силу духа: кто посмеет пройти ночью через кладбище или искупаться в ночном озере, невзирая на русалок и водяных.
Так же безоснователен упрек Поринца к фольклорным (языческим) сказкам, мол, они часто далеки от христианской морали и могут научить «плохому». Но тут против Поринца говорит сама история: до XIX века практически не было литературных сказок, тысячу лет христианские дети в христианских семьях Руси (включая самого великого «отличника» — Пушкина) воспитывались на фольклорных, народных сказках. Это подтверждает отсутствие прямой связи между разговорами о добродетели и самой добродетелью. Мораль, правильное поведение, христианские взгляды приобретались в реальной жизни — в семье, труде, обществе, храме, но не в сказке. Мораль никуда не девается из сказки (да это и невозможно), она только не выпячивается, тонко разливается в сюжете, воспринимается скорее на уровне подсознания. Сказка не имеет прямой дидактической функции, ее задача и влияние в другом — сказка помогает ребенку фантазировать, мечтать, сочинять, сопереживать, «творить миры» — иначе, откуда бы взялись все писатели, если бы родители лишили их в детстве этого творческого зачала?
О значении сказки (мифа) говорится в знаменитой беседе Толкина с Клайвом Льюисом (после которой Льюис обратился в христианство):
«„Но мифы лгут, — возражал Льюис, — хотя это и посеребренная ложь“. „Нет, они не лгут“, — отвечал Толкин. И, указывая на большие деревья Магдален Гров и на их ветви, гнущиеся под ветром, он начал объяснять. „Ты называешь дерево деревом, — сказал он, — и более не думаешь об этом слове. Но оно не было „деревом“, пока кто-то не дал ему такого имени. Ты называешь звезду звездой и говоришь, что это всего лишь шар из материи, который движется по рассчитанной орбите. Но это только ты так видишь звезду. Называя и описывая вещи подобным образом, ты всего-навсего сам придумываешь для них названия. И так же как речь — изобретение слов, называющих объекты или идеи, миф — изобретенный язык для рассказа о правде. Мы все сотворены Богом, и потому неизбежно, что мифы, которые нами плетутся, хоть и содержат ошибки, все же позволяют нам увидеть и мелкие брызги истинного света, той извечной истины, что от Бога. Поистине, лишь созидая мифы и превращаясь тем самым во „вторичного творца“, лишь выдумывая легенды, Человек может надеяться достичь того совершенства, какое он знал до своего Падения. Мифы, быть может, не слишком хорошие лоцманы, но они ведут, пусть даже кружным путем, в гавань истины, тогда как материалистический „прогресс“ тянет в зияющую бездну и к Железной Короне зла“». (Цит. по «Биографии Толкина» Х. Карпентера).
Вот как высоко ставит планку Толкин: не нравоучение, а сотворчество Богу — такова задача сказки и сказочника.
Думается, идеи, вроде изложенных кандидатом наук Ю. Поринцом и ему подобными (имже несть числа), вряд ли могут считаться подходящим «путеводителем» родителей и их детей в мир сказки. Дети — не оранжерейные орхидеи, вянущие от малейшего свежего ветерка. Ведь если дети будут пользоваться только «лучшим» — благочестивым, «духовным», но при этом малоталантливым и скучным, то вырастут ли из таких образцово-показательных детишек новые Льюисы и Толкины?
Читайте также:
Если вам нравится наша работа — поддержите нас:
Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340
С помощью PayPal
![]() Или с помощью этой формы, вписав любую сумму:
Или с помощью этой формы, вписав любую сумму: