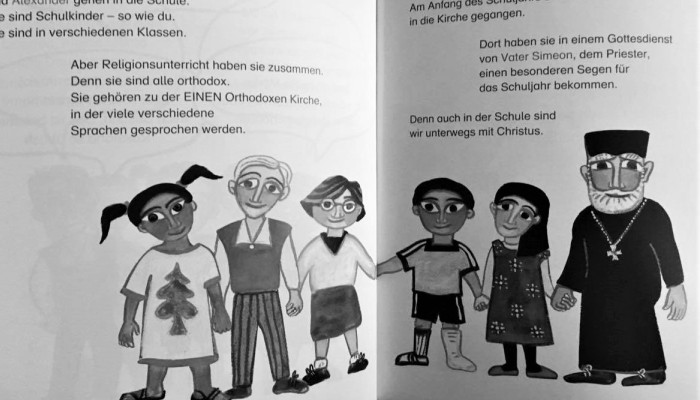«Из всего они делают застенок». КГБ, Буковский, Солженицын и Левитин
15 сентября 2023 Анатолий Краснов-Левитин
Из книги Анатолия Краснова-Левитина «Родной простор: демократическое движение. Воспоминания», Часть 4. Левитин рассказывает об аресте диссидента Владимира Буковского, своей статье в его защиту и своем новом аресте:
…И вот наступил новый, 1971 год.
И опять фрагменты воспоминаний.
Один из февральских дней. Опять с Владимиром кочуем по Москве. Он заводит меня к Цукерману, руководителю сионистов, женатому, однако, на русской женщине, да еще из дворян. У Буковского была установка — объединять диссидентов, знакомить их, перебрасывать мосты. Не знаю, как в других случаях, — на этот раз получилось неудачно. Зашла речь об эсхатологических настроениях у некоторых из наших знакомых верующих людей. Цукерман (как о чем-то само собой разумеющемся): «Ну, понятно, что у русских могут быть такие настроения. Русский народ — народ конченый».
Я вспыхнул. Почувствовал себя русским до глубины души. Точно так же, как чувствую себя евреем, когда слышу антисемитские выпады. Стал спорить. Спор был очень жарким. В какой-то момент Цукерман провозгласил: «Таких вещей эти стены еще не слышали».
Я: «Тем более. Для разнообразия не мешает».
И спор продолжался. Буковский во время спора хранил мертвое молчание.
И наконец март. Узнаем, что некоторых из наших посадили в сумасшедший дом. В один день были отвезены в психиатрическую больницу им. Кащенко супруги Титовы (художник и его жена) и моя крестница Юлия Вишневская. Это была подготовка к XXIV съезду КПСС, который должен был открыться через несколько дней.
Как говорил мой покойный отец: «Из всего они делают застенок».
Действительно, из всего. От спортивной Олимпиады до партийного съезда.
В ближайшее воскресенье мы все пошли навещать ввергнутых в психиатрическую тюрьму: Юрия Титова, его жену Елену Васильевну, Юлю Вишневскую. На лестнице множество диссидентов. Среди них Владимир.
В этот день я видел Владимира в Москве в последний раз. На другой день звоню к нему по телефону. Никто не подходит. Почему-то сразу почуял что-то неладное. Иду к Людмиле Ильиничне. Спрашиваю: «Что с Володей?» Лаконичный ответ: «Вчера в 11 часов вечера арестован».
Далее было, как всегда. Собрались у Якира. Весь цвет московского диссидентства. Решили составить петицию на имя открывающегося XXIV съезда. Петиция была составлена в нарочито каучуковых выражениях. Чтобы все могли подписать. Никто бы не испугался. Однако тотчас начались возражения, поправки. От этого петиция стала еще более водянистой.
Я понял: ничего из этой петиции не выйдет. Со свойственной мне стремительностью провозгласил: «Надо, чтобы выступил Солженицын».
Все ахнули. «Что вы: он же ничего не подписывает».
Я: «Не подписывать, а выступать. Выступит».
Здесь находился Юрий Штейн, свойственник Солженицына: муж двоюродной сестры его первой жены. А Солженицын в это время жил под Москвой, на даче своего друга — известного виолончелиста Ростроповича.
Я к Юрию Штейну: «Дайте мне телефон Ростроповича».
Он: «Не могу. Меня просили никому не давать».
Я: «Ну, сейчас я беру такси и еду к нему на дачу. Ворвусь, несмотря на поздний вечер».
Взглянув на меня, Юрий Штейн, видимо, понял, что я не шучу. Помявшись, сказал: «Ну, хорошо, я вам дам телефон Ростроповича, но только не говорите, что это я вам его дал».
Мы пошли звонить с одной из наших девочек к автомату. Перед этим зашли к Нине Ивановне (матери Буковского). Она потрясена. Говорит: «Бедный мальчик, опять он в этих сырых стенах».
Выйдя от Нины Ивановны, звоним. Говорит девушка (моя духовная доченька). Подходит сторож. Она говорит: «Попросите Александра Исаевича. Скажите, что с ним хочет говорить Анатолий Эммануилович». (С Солженицыным я был немного знаком.) Долгая пауза. Наконец, подходит Солженицын. Девочка передает трубку мне.
Солженицын (любезно): «Здравствуйте, Анатолий Эммануилович».
Я: «Александр Исаевич, мне надо экстренно вас видеть».
Пауза. Затем недовольный голос: «Я знаю, о чем вы хотите говорить. Только нужно ли? Что ж это мы все пишем, пишем».
Я: «Вы не знаете, о чем я хочу с вами говорить. Но надо непременно».
По голосу Александр Исаевич, так же, как перед этим его свояк, видимо, понял, что я шутить не собираюсь.
«Есть ли у вас телефон в Москве?» (Он знал, что я живу за городом, в Ново-Кузьминках.)
Я: «Есть», — и дал ему телефон жены.
«Я вам позвоню».
Был уверен, что не позвонит. Сказал, чтобы отделаться. Нет, позвонил. Ни меня, ни жены в этот момент дома не было. Подошла соседка. Услышала в трубку: «Это говорит Солженицын». Бедная соседка при этих словах чуть не грохнулась в обморок.
«Передайте Анатолию Эммануиловичу, чтобы он позвонил мне по такому-то номеру».
Через два часа я позвонил. Это была Вербная суббота. Александр Исаевич сказал: «Можете ли быть сегодня у всенощной у Ильи Обыденного» (это популярная московская церковь, в которой он незадолго до этого крестил сына).
К шести часам иду к церкви.
Отчетливо помню, как ехал на метро. На станции «Кропоткинская» вышел. Когда шел по коридору, заметил впереди какую-то необыкновенную фигуру. Первая мысль: «лагерник». Сразу вспомнил старые лагерные типы. Высокий мужчина, плечистый, в какой-то кацавейке, напоминающей бушлат. Широкие шаги. И в манерах, в походке что-то неуловимо лагерное. Помню свою мысль: «Символично. Иду на встречу с Солженицыным и встречаю лагерника». И в этот момент замечаю, что это и есть Солженицын. Пытаюсь его догнать. Невозможно. Уж очень широкие у него шаги. Выходим из метро. Переходим через площадь. Он впереди, я позади, шагах в сорока от него. Обогнули площадь. С ходу он в телефонную будку. К кому-то звонит. Тут я его и догнал. Поравнялся с будкой. Жду, пока он кончит разговор. Выходит из будки. Здороваемся.
Я: «Ну, давайте походим вокруг бассейна».
Спускаемся. Ходим на том месте, где когда-то был Храм Христа Спасителя. А теперь бассейн. (Опять символизм — во всем символизм.)
Разговор начал я: «Знаете ли вы Владимира Буковского?»
Ответ: «Лично не знаком, но знаю».
Я: «Какого вы о нем мнения?»
«По-моему, очень достойный человек. Его заявление насчет людей, посаженных в психиатрические больницы, великолепно. Слышал по радио».
«Сейчас он в ужасном положении. Они давно его ненавидят и за ним охотятся. И его не выпустят. Надо его спасать. Выступите в его защиту».
Пауза.
«Когда вы ко мне звонили, я понял, о чем вы будете говорить. Но все-таки не думал, что вы мне предложите подписать петицию съезду партии. Ну, вот они бросили вашу петицию в мусорный ящик. Передали в комиссию. Сейчас наблюдается инфляция подписей. Вот летом я выступил в защиту Жореса Медведева. Его через две недели выпустили, а я заклеймил их на века (сказал он скромно). А когда мы подписываем петиции каждые две недели, на них перестают обращать внимание. И вообще петиция — это нечто коллективное. Вот вы заявляли о том, что вы социалист и принимаете революцию. С вами я уже не могу подписывать никаких петиций. Я человек индивидуального опыта. Вы же тоже человек индивидуального опыта (прибавил он любезно). То, что вы сделали индивидуально (ваша история Церкви) имеет ценность; то, что вы сделали коллективно (Инициативная группа, петиции), особой ценности не представляет. Если где-то пробоина, это вовсе не значит, что все мы должны бросаться ее затыкать. Каждый из нас делает свое дело, это и есть наш ответ».
«Скажите, пожалуйста, Александр Исаевич, если бы, когда судили Синявского и Даниэля, мы не подняли такой шум на весь мир, как вы думаете, кто был бы следующий?»
«Не знаю. Может быть, я».
«Да, это были бы вы. Вы же знаете, что тогда Шелепин потребовал 20 тысяч голов, чтобы покончить со свободомыслием. В этом списке вы, безусловно, были бы первым. Только широкая кампания в защиту Синявского и Даниэля заставила их отступить. Синявского и Даниэля мы не спасли, но дальнейших арестов не последовало. И Егорычев на XXIII съезде вынужден был забить отбой. Мы знаем ваши установки, и никто из нас не думал вас просить подписывать какие-либо петиции. Мы хотели вас просить (и мать Буковского, и мы все) об одном: чтобы вы выступили в защиту Буковского. Неужели мы должны вас учить, как это сделать. Выступите! Надо спасать человека, который, безусловно, является самой крупной личностью среди нашей молодежи».
Он: «Видите ли, может быть, в свое время я выступлю, но сейчас не время». И опять те же рассуждения об инфляции подписей.
Я увидел, что дальше говорить на эту тему бессмысленно. Перевел разговор на нейтральные темы.
Мы пошли в церковь. Я взял свечку, прошел несколько вперед. Когда потом оглянулся, Солженицына в церкви уже не было.
Тогда я принял решение самому написать статью о Владимире. Когда пошел к его матери за биографическими справками, она мне сказала: «Я не хотела бы, чтобы вы этим занимались. Вы сами на волоске».
Это я знал, но все-таки написал.
Перед тем, как начать писать, открыл Библию. Вышел текст: «Не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа» (это про юного Давида).
Эти слова меня поразили. Взяв перо, написал: «Не мечом и копьем». И выписал библейские слова в эпиграф.
…Перепечатываю эту статью сейчас, через десять лет. Спрашиваю себя, не преувеличил ли я? Не перехвалил ли его так же, как генерала Григоренко за два года перед тем.
Думаю, что нет. И у того и у другого в характере есть и другие черты. Оба они весьма тяжелые люди и, уж во всяком случае, не ангелы.
Но в те времена они переживали героический период своей деятельности, шли на страдания, на подвиг. И это поднимало их над жизнью, смывало, сглаживало все те пошловатые, отрицательные черты, которые есть у каждого. Есть и у них.
Катарсис, о котором писал Аристотель как о существенной черте трагедии, существует не только на сцене, но и в жизни. И в эти моменты и у Григоренко, и у Буковского происходил «катарсис» — очищение духовное, — и у них и у их близких. Коснулся этот катарсис и меня.
В 1969 году я написал статью о Григоренко, тронутый его подвигом. Это было главной причиной моего ареста.
В апреле 1971 года я написал статью о Буковском. Это было главной причиной моего ареста в следующем месяце.
Мой адвокат Залесский передал мне слова следователя: «Может быть, мы прекратили бы дело. Но его статья о Буковском носит такой вызывающий характер, что оставить ее без последствий мы не можем».
Сейчас они оба (и Григоренко и Буковский) на свободе. Оба опубликовали свои воспоминания. Воспоминания небезынтересные. Мне в них не нашлось места. Я для них обоих оказался слишком незначительной величиной. Чем это объяснить? Ответ дает И.С. Тургенев.
ПИР У ВЕРХОВНОГО СУЩЕСТВА
Однажды Верховное Существо вздумало задать великий пир в своих лазоревых чертогах.
Все добродетели были позваны им в гости. Одни добродетели… мужчин он не приглашал… одних только дам.
Собралось их очень много — великих и малых. Малые добродетели были приятнее и любезнее великих, но все казались довольными и вежливо разговаривали между собой, как приличествует близким родственникам и знакомым.
Но вот Верховное Существо заметило двух прекрасных дам, которые, казалось, не были знакомы друг с дружкой.
Хозяин взял за руку одну из этих дам и подвел к другой.
«Благодетельность, — сказал он, указывая на первую. — Благодарность», — прибавил он, указав на вторую.
Обе добродетели несказанно удивились. С тех пор как свет стоял — а стоял он давно — они встретились в первый раз.
Декабрь 1878 г.
Обе прекрасные дамы не встретились и за письменным столом Григоренко и Буковского. Пора катарсиса осталась у них обоих далеко позади.
Иллюстрация: Демонстрация за освобождение из тюрьмы Буковского (Амстердам, 4 января 1975 года)