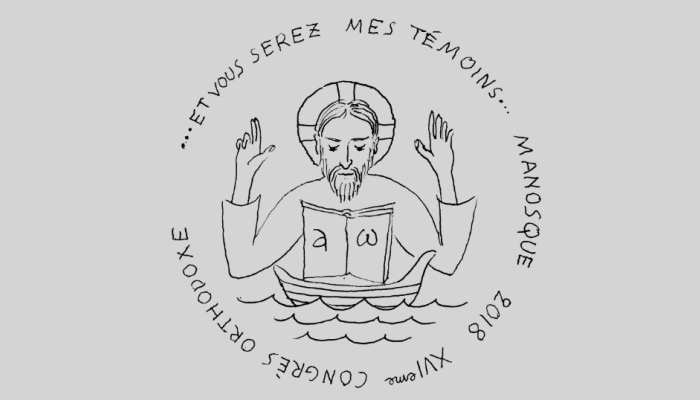О наследии Христовом и «репрессивной ментальности»
25 августа 2022 протоиерей Владимир Зелинский
Из фейсбука (начало, окончание) протоиерея Владимира Зелинского:
Полвека в Церкви, больше двадцати лет в сане и вот задумался. И как-то оторопел.
Столп и утверждение истины нашей? Речь не о книге Флоренского, но о Писании и Предании. Предание — это и есть Писание, истолкованное Отцами, раскрывшееся во времени, прожитом и преображенном Церковью. Живое Евангелие, которое, как обещано, «напомнил» и продолжает «напоминать» Дух Святой, дышащий в истории. Так определяют его (в вольном моем изложении) оо. Мейендорф и Станилоэ. И Христос, и там, и здесь, и во веки Тот же. «Не может и не должно быть разрыва между Священным Писанием и Преданием» (о. С. Булгаков). «В жизни Церкви Весть вечно обновляется» (о. Г. Флоровский). Это и есть Предание. Азбука православной веры.
Но что делает Христос в Писании? Как доносит Весть о Царстве, которое приблизилось? Проповедует и исцеляет. Глухой от рождения, паралитик, 38 лет ждавший чуда, вдова, потерявшая единственного сына… К одному возвращается речь, другой выздоравливает, умерший мальчик воскресает лишь силой одного Его слова. Вот оно в этом и приблизилось: во встрече с Иисусом, которая приносит добро тому, кто в добре нуждается. Не только духу, но и телу возвращается его целостность, восстанавливается полнота жизни. «Ты освобождаешься от недуга своего». Ты — снова тот, кем ты был создан, каким хочет видеть тебя Господь. Благая Весть — обетование о спасении от греха, но и рука, протянутая немощным, а через них — всему недужному человечеству. Возвещение Царства и исцеление в Евангелии нераздельны.
Люди, которым Он помогал, для Него — свои. Кем бы ни были. Римский сотник, сирофиникианка, мытарь, самарянка, у Него нет чужих. Каждому встречному дается не только врачевание, но — и дарение Себя. Если Он и говорит кому-то «не знаю вас» — то не инаковерам, но лицемерам, тем, кто, возлагая бремена неудобоносимые, пальцем не пошевельнут. Тем, кто мог, но не накормил, не напоил, не одел, не посетил…
Какие слова высвечивают главное в Его наследстве? Надежда, вера, мужество, радость…, «любите друг друга», «идите научите все народы…». Быть ближним, близким каждому, Своим. Наследство это потом не смогли поделить, вокруг него всегда кишели и налипали лицемерия, преступления, приспособления, искажения, всего и не перечислишь. Однако под всей этой тяжестью мирского, греховного, страстного, даже мифического, христианство не рухнуло, как рухнул на наших глазах коммунизм; его несла, держала мощная, то широкая, то порой невидимая для глаз река… правды, той, что могла опереться на «свет, который в тебе». «Любовь не перестанет», сказал апостол, и не перестает. Каждая страница нашего календаря полнится святыми, апостолами, епископами, молитвенниками, мучениками, миссионерами, аскетами, учителями веры, праведниками, положившими душу «за други своя»… За ними толпится еще сонм никому не ведомых, незамеченных, просто забытых. Все это живо, не исчезло из мира, каким бы он ни был безбожным, плоским, глобализированным.
И в то же время, с самого начала в недрах самой этой любви, в глубине ее, как сказать? свила гнездо ненависть. Она тоже есть (почти) священная часть Предания, хотя чаще предпочитала в этом не признаваться. Пела на разные голоса про любовь, но легко умела отводить ее в сторону от здесь-стоящего человека, если стоит он неправильно. Вражда к чужому «инвестировала» любовь в защиту веры под видом любви.
Все началось с простого и даже оправданного разделения с теми, кто в пшеницу правого исповедания примешивал еретические свои плевелы. Плевелы стали выбрасывать вместе с породившими их, чего Христос делать до Суда не велел. Церковь, в историческом своем странствии, отстаивала, строила себя, выбираясь из болота лжеучений. Ереси отсекались просто словом, затем словом-проклятием носителю их, но едва христианство перестало быть гонимым, соединилось со светской властью, дошла очередь и до тел.
Именно плоти с ее мышцами, кожей, кровью, нервами надлежало первым делом отвечать за блуждания духа. Человеческое тело, подобное тому, которое Христос исцелял, теперь во имя Христа могло подвергаться муке; оно пыталось, калечилось, растягивалось на дыбе, ослеплялось, сжигалось, бывало и перепиливалось пилой. Ввергалось в «гари» (сожжения и самосожжения староверов), как когда-то бывало у нас. По меньшей мере тысячелетие все это считалось вполне нормальным; оскорбитель правой веры не заслуживал иной участи. Что он при этом испытывал, в каком аду была его душа, что отразилось в его последнем взгляде, мало кого касалось, ни на каких весах не взвешивалось. Ведь в аду, куда его отправляли с земли, ему будет заведомо хуже.
Однако евангельские исцеления не просто возвращали телесное здоровье, они несли и свое послание. «Имеющий уши» мог бы, пожелав, и услышать. Бог хочет видеть человека восстановленным в его целостности, как духовной, так и физической. Каждое исцеление говорит: пусть это тело, которое Я сотворил, будет свободным от греха и недуга. Предупреждая о грядущем мученичестве, Господь мук не налагает ни на кого. Тем более не убивает. «Из тех, кого Ты мне дал, Я не погубил никого». Следуя букве и духу Нового Завета, всякое покушение на физическую целостность человека прямо идет против заповеди о любви к врагам. Однако где-то с пятого века мученичество, предназначенное врагу, «отбившемуся от стада», стало частью нашего исповедания. Как бы само собой разумеющейся частью. Ценность истинной веры была безмерно весомей хрупкости отдельной человеческой жизни. Всякой жизни, в том числе и своей, потому что насилие над другим часто неотделимо и от насилия над собой, ибо «Царство Божие силою берется…». Но лишь той силою, которая применялась к себе. Насилие над другим во имя спасительной веры во Христа было, по сути, прямо противоположным тому, чему учил и что делал Христос. Но стало нормой и надолго.
В смягченном виде это остается нормой и сегодня. Мы ее унаследовали и забыли покаяться в бессердечии наших предшественников. Конечно, никакие религиозные структуры в наши дни в принципе не могут посягать на тело другого для религиозного вразумления духа; светские законы сегодня им этого не позволят. Но светские эти законы, сами откуда взялись? Не застыл ли в них последний всплеск волны, откатившейся от Евангелия? Сегодня Церкви могут наказывать только своих и, как правило, только одним способом: отсечением от себя, временным или вечным. Но «репрессивная ментальность», говоря современным языком, осталась, растворившись в наших правилах, нравах и образе мысли. Еретик, раскольник, схизматик, попиратель канонов, изменник истине как родине и родине как истине; не тело, а душа отсекается теперь от источника жизни клеймом и прозвищем. Или всего лишь угрозой, но постоянно висящей.
Из такого отсечения не выветрился запах «гарей», все еще дымящих в авторитарности духовенства, уверенного, что имеет «прямую линию» с Господом, почти крепостном статусе священников, зависимых от владык, их, священства, владычества над мирянами в преподании таинств, особенно причастия и исповеди, даже в агрессивно суетливом радении пожилых скандальных церковниц о тех, кто случайно зашел в храм в джинсах и без платка. Словом, у кого какая есть ко власти страсть, пусть, и малая совсем, тот не преминет ее разжечь.
Но бывает дело серьезней, как в наши дни, когда интересы церковные сливаются с державными почти до неразличимости. Как в этой смердящей войне, когда кесарем или национальным лидером с ущемленным имперством назначенный враг уже и небесам недруг, и само небо посылает на его голову ливень бомб и ракет. Раз он вычеркнут из списка ближних, его не то, что любить, ему и жить незачем. Ибо мы со святой уверенностью исходим из того, что истина, которую отстаиваем, — наше извечное достояние, она давно определена, заключена в старых книгах, списанных с них проповедях и заключена в государственных границах. Она — не только целиком наша, но и мы сами — уже часть этой небесно-национальной истины. Всякий же уклоняющийся от ее текста, даже просто о нем не ведающий, заведомо виновен и не избежит наказания. Степень наказания может быть разной: от презрения, отлучения до выдаваемой гарантии вечной гибели. Последнее особенно популярно.
Такого нет, если отойти от горестного сегодняшнего дня, как ни странно, в иудаизме, где есть понятие «греха Адама», последствия которого ложатся на всякого человека, но никто не должен отвечать за то, что не сумел родиться в народе, принявшем откровение Моисеево. Бог не требует от язычника исполнения всех (числом 613) заповедей Талмуда. Достаточно честного соблюдения 7 заповедей Ноя, но определяющих не исповедание твое, но путь жизни, который Господь оставил для всех. Никто из иноплеменников заведомо не виноват в том, что он не еврей. А в христианстве, в исламе в общем так: если ты не узнал истинного Бога, предпочтительно на Его территории, неважно почему, по времени и месту рождению, по незнанию, по греховной еретической воле, даже если ты умер до крещения, не исповедуя спасительной религии, то, как ни смягчай, виноват. На какое оправдание ты можешь надеяться на Страшном Суде? Вот Грузинская Церковь уже в наши дни ни смягчать, ни увиливать не захотела, заявив во всеуслышание: некрещеные младенцы не спасутся. Сказано вполне по Преданию, явно с вызовом либеральному, гуманистическому, безбожному миру сему, но ведь бывают случаи, когда хорошо и промолчать.
Католичество после Второго Ватиканского собора, протестантские конфессии, кроме самых маргинальных и фундаменталистских, в силу естественной эволюции всю эту неотвратимость «вне Церкви нет спасения», где в прошлом под Церковью подразумевалась каждая из них, сильно смягчили, практически свели на нет. Твердое же православие осталось неколебимым в своем отвержении всякого, кто «не сего двора». Оно, как монастырь Эсфигмен на Афоне (если взять самое радикальное наше согласие), живущий под лозунгом «Православие или смерть», ощущает себя последним островом в океане язычества, еретичества и мутной экуменической апостазии. Едва ли оно намеревается кого-либо обращать и от смерти спасать. Коли идете в вечную гибель, так и идите широкой, протоптанной вашей дорогой, нам-то что. Сколько же таких островов с тем же лозунгом плавает в человеческом океане? Да и зачем кого-то еще обращать, когда на дворе — «последние времена»?
Трудно принять, что именно такую веру, какой бы ни была она жертвенно героической, нам оставил Христос. Да, безусловно, это вера в Бога, жесткая, непримиримая, прямая, но и вера сама в себя, в свою крепость, нерушимость, укорененность, литургичность, я бы сказал, свою видимую телесность. Тот, Кто невидим и непостижим, запирается в видимом, понятном, тысячелетиями обжитом духовном жилище, и, чтобы никогда не быть оттуда выпущенным, на двери дома вешается крепкий замок, и он обносится высоким забором. Бог пребывает только здесь и нигде больше, за забор Ему возбранено выходить. Да и могло ли быть иначе, с тех пор, как наследие Христово стало мировоззренческой повинностью, единоверием, установленным властью? Возможен ли был иной путь, на котором всякий человек был бы дороже Богу того, что он о Боге думает или что думает за него его религия? На котором слово «свобода» было бы свободно и не выводилось исключительно только из борьбы с бесами, осаждающими душу, оставляя все прочее на усмотрение бесов мира сего.
Ныне бесполезно спрашивать; отцы наши выбрали этот путь, иного, целиком свободного от насилия прошлого у нас за плечами нет. А начинать все с нуля могут только харизматические секты; они, кстати, размножаются и растут куда быстрее институциональных церквей. Но задуматься мы все же еще можем. Как соединить правоту веру, не утратив того, что было когда-то создано молитвенным подвигом и выпестовано Преданием, с тем, кого Августин назвал «славой Божией, живым человеком»? Не отсекая его за то, что он овца из чужого стада, не следуя, пусть и не конца сознательно, «репрессивной ментальности», — а она бывает не только охранительной, но из либеральных либеральнейшей — но встречая, узнавая, удивляясь ему во Христе? Ибо только Он открыл нам то, «что есть человек и что есть сын человеческий», которого посещает Господь.
«Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются», уже 3000 лет обещает Псалом (84,11). Сегодня это упование лишь на подступе, мы еще на самом дальнем пороге такого сретенья. Но спрошу с простодушием св. Франциска: за тысячелетием угроз, прещений и наказаний, не зреет ли подспудно иное тысячелетие, где Бог наш будет встречаем и узнаваем не в одном лишь Его тождестве с истинной Церковью (со всем великолепием ее догматики, литургики, икон, распевов, сакрального языка, календаря…), но и в добром самарянине, нагнувшемся над случайным встречным, от разбойников пострадавшим?
Ответа не знаю. Но задумываюсь.