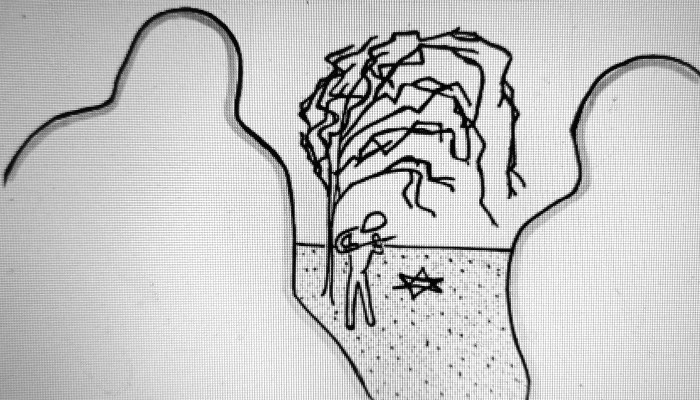Разрушить замок. Часть 2
29 мая 2021 Елена Суланга
Начало читайте тут.
Крошечное существо, беспрерывно оравшее по ночам в первые недели своей жизни (она прислушивалась, не без гордости отыскивая в крике младенца басовые нотки), позволило позабыть перенесенные недавно муки. Или, по крайней мере, почти не вспоминать о них.
Наступила полоса спокойной и относительно безбедной жизни. Соседи по коммунальной квартире, вмещавшей около тридцати человек, жили довольно мирно. По вечерам устраивали общее чаепитие, тогда на кухне сдвигались столы, и каждый, было бы желание, мог присоединиться к нехитрой беседе.
Ребенок рос послушным, мальчишеские забавы и шумные игры были ему абсолютно чужды. После обеда он обычно садился на свой трехколесный велосипед и, не торопясь, ездил взад-вперед по коридору. Путь казался необыкновенно длинным, поскрипывали половицы, слегка дурманил запах мастики. Маленький детский бесенок гордыни время от времени нашептывал ему что-то, отчего лицо ребенка сразу же принимало неестественно важный вид, и тогда он отнимал правую руку от руля и царственным жестом приветствовал старого кота, дремавшего на коврике, мимо которого он всякий раз проезжал.
Мать перебивалась случайными заработками — раскрашивала сумочки, выполняла нехитрые рисунки по трафарету, что-то вышивала или вязала. Ей хотелось рисовать маслом, но из-за ребенка она не рискнула держать в комнате краски и растворители.
Муж занимался научной работой. Судя по всему, его ожидало блестящее будущее. Его математические способности легко позволили защитить диссертацию, на него стали обращать внимание видные авторитеты науки, он выступал с публичными лекциями, ездил в командировки. Вскоре молодому талантливому ученому предложили руководящую должность… Вся эта кутерьма в течение года сильно изматывала. Но зато теперь хватало денег и на питание, и на то, чтобы снять на лето дачу.
Жизнь налаживалась. Казалось, ничто уже не должно было нарушить ее монотонного ритма.
***
Было тепло, взрослые отдыхали, дети нежились на солнце. Сначала никто ничего не понял.
«О т С о в е т с к о г о и н ф о р м б ю р о…»
В это никто не хотел верить. «Если завтра война, если завтра в поход». Какой поход? Все давно закончилось — там, в морозных и голодных годах, в ледяных операционных, в парах хлороформа, в нескончаемой боли — все, все, и теперь должна быть новая жизнь, вот она: дети играют, взрослые нежатся на солнце… «О т С о в е т с к о г о и н ф о р м б ю р о…»
Это было правдой.
Какое-то время они еще провели на даче, собирая потихоньку вещи и плохо понимая, что же будет дальше. В один погожий день выбрались в лес, он был рядом с деревней. Получасовая прогулка, несколько маслят в корзинке — они шли, в основном, вдоль канавы. И вдруг странный свист… Почуяв опасность, она тотчас пригнулась, обхватила рукой сына, столкнула его на дно канавы и прикрыла своим телом.
Так они и лежали в грязи, не рискуя пошевельнуться. Вскоре послышалась чья-то отрывистая речь: «Weiter, weiter! Schnell!» Они лежали как мертвые. Голоса проплыли совсем рядом, но, судя по всему, их никто не заметил.
Снова засвистели пули. Кто-то вскрикнул вдали. И только когда прямо над их головами пронеслось раскатистое: «… твою мать! А эти что здесь делают?» — она медленно подняла голову из болотной тины.
***
Немецкий десант удалось быстро ликвидировать. Но находиться вблизи линии фронта было уже слишком опасно. Поддавшиеся панике люди хватали свои пожитки и бежали к железной дороге, в надежде сесть на любой поезд и добраться до города. Но поезда уже не ходили: один из железнодорожных мостов на пути к городу был взорван. С юга стремительно наступали немцы.
Люди бежали по шпалам, спотыкались, падали, корзинки со скарбом переворачивались, их содержимое оставалось на земле. Кто-то тащил в сумке кошку; животное орало, заражая истошным криком маленьких детей.
Одна пожилая женщина рухнула на землю. «Все! Больше не могу». Грузное тело содрогалось в ритме неровного дыхания, руки тряслись. Внезапно из толпы выскочила невысокая темноволосая женщина и, буквально подлетев к упавшей, стала немилосердно хлестать ее по лицу. «Вставайте! Немедленно вставайте! Ну же!» В голосе чувствовалась легкая нотка сострадания, смешанная с презрительным недоумением. Казалось, ей было невдомек, как можно вот так легко, безо всяких причин, сдаваться, потакая своей слабости.
Дама наконец поднялась и, что-то пробормотав, заковыляла вдоль дороги. Ее слегка пошатывало, но она шла вперед с тупой уверенностью механической куклы.
Несколько часов сумасшедшей гонки, почти два десятка километров — и аварийный участок дороги остался позади. Они успели на последний поезд. Люди увидели состав, готовый отправиться в путь. Собрав последние силы, толпа устремилась к вагонам.
***
Первая блокадная зима… В госпитале пахло карболкой. Раненые лежали почти вплотную, проход между кроватями оставался необычайно узким. Мало кто о чем-либо говорил, каждый был погружен в свои мысли и свою боль.
Одна из уборщиц часто ухаживала за ранеными и помогала персоналу. Не обладая профессиональными навыками, она, казалось, гораздо лучше других понимала, что нужно больным. Ее любили. Обычно замкнутые в себе, раненые делились с нею своими бедами, и тогда они напоминали ей маленьких детей, и с этой меркой она подходила к видавшим виды фронтовикам. Подчас они просили о таких услугах, которые обычно оказывают только санитарки, но она выполняла все, от нее зависящее, и ни разу не роптала на судьбу.
Однако с такой необычной просьбой к ней еще никто не обращался. Солдат, который должен был вскоре отправиться на фронт, просил навестить своих родных. Он боялся, что семья эвакуируется до того времени, как он покинет госпиталь, и они могут никогда не свидеться. Заодно он смущенно добавил: хочется курить, табак лежит в…
К дому, где жила его семья, она добрела не скоро: распухшие ноги плохо слушались. Тяжелее всего было подниматься наверх: лифт давно не работал, а лестница оказалась местами разрушена. Приходилось идти, балансируя над провалом в несколько этажей. Чугунные перила подчас служили более надежной опорой, чем обломки ступеней.
Квартира на верхнем этаже. Входная дверь распахнута и висит на одной петле. Иней нарисовал узоры на стеклянной перегородке, ведущей в комнату. Скрипнула половица. И тотчас же серая копошащаяся масса заметалась и шмыгнула с кроватей на пол. Стараясь не глядеть на останки, она ощупью нашла ручку комода, открыла его и взяла табак.
Сил не хватило сказать правду. «Ваши уже эвакуировались», — только и удалось произнести, протягивая солдату холщевый мешочек.
Холод дня не мог сравниться с холодом ночи. Она делила свой паек с сыном, забиралась в промерзшую насквозь кровать и укрывалась всем, чем можно. Главное — мужнина шуба. Эту шубу она волокла во время бегства с дачи. Хотелось бросить тяжесть, но что-то подсказывало не избавляться от лишнего груза. Теперь же эта шуба спасала им жизнь.
Муж воевал. Известий с фронта не было.
***
Ее окликнули по имени. Что-то официальное прозвучало в голосе человека, стоявшего за спиной. Еще не разобрав толком, в чем же дело, она поняла: случилось нечто непоправимое.
В детском садике, где находился ее сын, разорвалась бомба. На негнущихся ногах мать подошла к руинам и на мгновение остановилась. Дети, вытащенные из-под обломков, лежали на снегу, некоторые из них были прикрыты кусками рогожи.
Медленно и сосредоточенно она стала искать среди недвижно лежащих окровавленных тел останки своего сына. Не было ни паники, ни ужаса. Сердце словно сковало льдом. За этой жуткой работой ее застала нянечка, ухаживавшая за детьми. Тронув несчастную мать за рукав, она тихо произнесла: «Пойдемте. Ваш сын у меня».
Та, наконец, подняла голову. Глаза были устремлены в одну точку. Возможно, она не понимала, о чем идет речь? «Да пойдемте же! Он… это невероятно: он вдруг увидел вас на улице и выскочил из здания, а я — за ним следом, и в тот же момент — бомба… мы бы все там остались… Теперь я знаю: это случайность, это были не вы, какая-то другая женщина его поманила, он ошибся…»
И тогда она села на снег, охватила голову руками и беззвучно затряслась, и остановить, унять это состояние, казалось, нет никакой возможности.
***
В начале марта им предписали эвакуироваться. Машины, набитые людьми, шли одна за другой по льду озера. Рядом рвались снаряды, грузовик мог в любую минуту уйти под лед. Но не это сводило с ума. Холод! Пронизывающий до костей. Казалось, перекристаллизовывалась сама сущность человека, все чувства и желания при этом вырождались, уступая одному единственному — в ы ж и т ь.
Она вспоминала. Однажды ей нужно было спуститься в подвал госпиталя, чтобы принести какие-то мешки… она уже толком не помнила, что именно. Дверь скрипнула, она сошла по ступенькам в клубящуюся темно-серую мглу. Стала шарить рукой по стене в поисках выключателя. Неожиданно ее пальцы коснулись какого-то скользкого предмета. Она отдернула руку, снова стала искать… но постоянно задевала окостеневшие предметы, похоже, ими было забито все пространство подвала, от пола до потолка. Безмерная усталость и, наконец, понимание того, куда она по ошибке попала, заставили ее прислониться к этим бесконечным штабелям мертвых тел. Мысль о том, что скоро и ей найдется место рядом с ними, показалась даже успокоительной. Нет никакого Бога, она перестала верить в него еще со времен своей первой больницы. Только провал, черное небытие и покой — без чувств и рассудка. Неотвратимая сила заставила ее спуститься именно в этот подвал, значит, тут ей и суждено остаться. Темнота… холод… сон… Она начинала потихоньку сползать на пол.
Внезапное воспоминание о сыне прорезало мглу, словно яркая вспышка света. Почти замерзая, она заставила себя побороть слабость. Оторвавшись от груды мертвых тел, медленно заковыляла к выходу.
Теперь предстояло, похоже, последнее испытание. Только бы преодолеть ледяное пространство! Сидевшая рядом старуха внезапно подняла безумное лицо с выкаченными из орбит глазами и вдруг завыла. В голосе не было ничего человеческого. К общему ужасу, кто-то тут же подхватил эту дикую песню, и вскоре вся машина, от мала до велика, выла по-волчьи. Звук сливался с воем ветра. Ритм отсчитывало уханье разорвавшихся снарядов. Монотонно тарахтел мотор — единственные теплые ноты в симфонии торжествующего хаоса.
Когда, наконец, ледяной рубеж остался позади, живые в машине сидели рядом с мертвыми. Последних сразу же куда-то унесли. Повара стали разливать по тарелкам густой жирный суп. Люди, мучимые голодом, исхудавшие до такой степени, что напоминали движущиеся скелеты, набрасывались на горячую пищу.
Нечеловеческим усилием воли она запретила себе есть этот суп, взяла лишь немного хлеба и накормила им сына. Интуиция не подвела: многие из тех, кто поел досыта, теперь умирали. Другие, пошатываясь, отходили в сторону — их организм просто не справлялся с обилием пищи. Люди не стеснялись друг друга, и никто не смог бы их за это осудить.
***
Было уже темно. Она лежала в крохотной комнатке, на одной кровати с сыном, тот спал, крепко прижавшись к матери. Последняя же, сквозь дрему, вспоминала: едкий запах дезинфекции, бараки, затем — долгий путь по железной дороге: их везли, как потом оказалось, куда-то на Северный Кавказ. Почти не разговаривали; в основном, сидели, тупо уставившись в одну точку… затхлый воздух… чьи-то грязные тряпки… мат… Станция прибытия. Люди. Бараки. Полуразвалившаяся хата. Крысы. Грязь. Нищета…
…мальчишка лет десяти идет навстречу,
вьюга заметает следы,
кто-то, очень «умный», вырвал паек, рассудив здраво…
не надо смотреть ему в лицо…
Она почти засыпала. Мысли и воспоминания путались, образы перетекали из одного в другой. Когда постучали в дверь, она уже дремала. Пришлось встать. Было темно. «Кто там?» — спросила она. Но черный проем безмолвствовал. Присутствие живого существа ощущалось почему-то внизу, у самого порога.
На нее глядели глаза — прямо от пола. Маленький человечек лежал на земле, он приподнял голову и привычно подтянулся на руках. Тихо, чтобы не разбудить сына, она втащила в дом ребенка, приползшего с улицы. «Но почему же он лежит, почему до сих пор не поднимается на ножки? Наверно, просто ослаб, и ему нужно помочь встать. Худенький-то какой!» Гостеприимная обитательница трущобы нагнулась и провела ладонью по тельцу мальчика. Но тотчас в недоумении отдернула руку. Что-то непонятное, липкое… Взяла со стола еле тлевший огарок свечи и осветила им непрошенного гостя.
Кровь и гной пропитали тряпки, когда-то служившие одеждой. У ребенка не доставало обеих ног ниже колена. По обрубкам ползали вши.
Ничего нового. Все это она уже видела бесчисленное количество раз.
Когда наступает предел человеческому терпению? В какой момент уже не существует философских понятий «добра» и «зла»? Сущность человека может почти не измениться за долгие годы. Но стоит отыскать подходящий момент — и на прежнем месте проявляется уже совсем д р у г о е. Ничего, накопленного ранее, не остается. И когда Господь положит «время собирать камни», кто тогда скажет за тех, не прошедших последнего испытания? Будет ли в чем их вина?
Что-то фатально менялось в ней. Чаша переживаний оказалась переполнена, и яд начинал медленно стекать на землю. Здесь уже не могло быть места ни жалости, ни состраданию. Просто — обычная механическая работа. «Нужны бинты, тряпки и медикаменты — где бы их достать? А больница, врачи… Хотя, как говорила соседка, немцы уже разбомбили единственный в округе госпиталь, выбросив на улицу раненых — тех, кого не успели пристрелить. Так как же помочь безногому ребенку, что же делать дальше?» Спокойно перебирая в уме варианты, она поставила кипятиться воду и принялась рвать на полосы свою единственную наволочку.
***
Пухленький розовощекий Гансик по-хозяйски распахнул дверь хаты. «Здесь все — мое», — отражалось на его самодовольном лице. Он оглядел висящие по углам лохмотья одежды, деревянный стол с одной покосившейся ножкой. За столом сидел мальчик, он ел похлебку, а теперь остановился и замер, крепко зажав в руке ложку. Но Гансику не нужен был этот худосочный ребенок, его внимание привлекла темноволосая женщина, стоявшая в глубине комнаты. «Jude?» — нагло спросил вошедший. Но женщина, похоже, ничего не поняла.
Гансик плотно прикрыл дверь. Его глаза наливались похотливо-масляным блеском, он шел вперед, он видел за спиной женщины узкую кровать, застеленную ветхим полосатым одеялом, он чувствовал себя средневековым бароном, решившим осчастливить нищую крестьянку…
Похоже, теперь женщина осознала, зачем явился этот человек. Она поняла его, как понимают звери — не по словам, не по намекам, а только по силе исходившей от него животной страсти. Пульсирующая энергия, казалось, проникла в лоно женщины еще до того, как немец протянул к ней руки.
И тогда она взглянула ему в лицо. Синие огни полыхнули… в глазах отразилась бездна, согласная принять и поглотить его, готовая выпить до дна всю его жизненную силу… черная алчущая бездна… не надо будить ее… женщина улыбнулась… взгляд был почти гипнотический… Гансик попятился… ему показалось, что он теряет сознание. Зацепив ногою стул, он со страхом выскочил из дома, и дверь долгое время оставалась распахнутой настежь.
***
Северный Кавказ. Оккупация. Холокост.
Эти люди были обречены, все они должны были погибнуть: от грудных детей до глубоких старцев. Желтая картонная звезда, прикрепленная французской булавкой к одежде, могла показаться нелепым украшением, но каждый раз, когда она видела на груди людей этот знак, сердце сжималось от ужаса. Иногда ее останавливали, пристально и бесцеремонно оценивали черты лица. Наверное, спасал цвет глаз: они загорались, как если бы солнечный свет внезапно коснулся кристаллов сапфира — о, немцы кое-что понимают в магии! А в душе она молила Бога, в которого давно не верила, чтобы никто никогда вот так же не разглядывал бы ее ребенка.
Она работала у немцев: чистила картошку, мыла кастрюли и грязные тарелки, стараясь ни на кого не глядеть и ни с кем не разговаривать. Одна прядь волос стала совсем белой и часто вылезала из-под платка, накинутого на голову. Похоже, что здесь ее принимали за полусумасшедшую старуху. Такой вариант вполне устраивал. Скорее бы закончился день!
Дома было холодно. Сын ни на что не жаловался, но иногда на его детском личике проступало что-то старческое. Наверное, это обстоятельство и выбивало из последних сил. По вечерам она брала веревки, длинную тряпку, все это складывала в мешок с двумя прорезями вместо ручек и отправлялась за хворостом. Лес находился у подножия Машука. Она осторожно шла садами и полем, стараясь не встретить немцев; добравшись до горы и оглянувшись еще раз — начинала медленно подниматься вверх.
В один из таких вечеров, когда уже садилось солнце, а хворост и более крупные ветки были аккуратно уложены в вязанку, она вдруг услышала какие-то странные, необычные звуки, доносившиеся из глухих зарослей. Сначала показалось, что кричит птица. Но чуть позже стало ясно: звуки напомнили музыкальную фразу, удивительно знакомую — она знала каждую ноту. Ни одна лесная птица не смогла бы так повторить мелодию! Это был голос скрипки.
Но, пожалуй, изумление вызвала не сама мелодия, столь неожиданно зазвучавшая в вечернем лесу, а то, к а к именно играл невидимый музыкант. Ибо при первых же аккордах она замерла и некоторое время стояла, не смея пошевельнуться, а когда немного пришла в себя, то сбросила хворост на землю и пошла вперед, раздвигая ветки руками. Вот все яснее и громче, вот совсем рядом…
Взгляд из глубины леса на закат сквозь деревья. Поляна залита оранжевым светом. Силуэт скрипача, стоявшего под одиноким деревом посреди пустого пространства, кажется почти черным.
Она осторожно сделала еще несколько шагов вперед, пытаясь разглядеть музыканта. Высокий худенький юноша играл, прислонившись к дереву; глаза его были закрыты. Тихо, чтобы не выдать себя неловким движением, она опустилась на землю. Ничего подобного за всю свою жизнь ей не приходилось слышать. Искусство с самого раннего детства имело над ней власть, она всегда любила рисовать звуки, вот и сейчас… но что-то не то происходит, что-то чудовищное, дьявольское, предчувствие непоправимой беды…
«Человек играл себе в лесу, ну и что? Возможно, дома ему не давали покоя, жена, орущие дети, соседи за стеной; он взял скрипку и удалился в лес — туда, где ему никто не будет мешать…»
Она снова посмотрела на скрипача. В какой-то момент он вдруг резко оборвал игру, опустил скрипку, раскрыл глаза и обвел пустое пространство непонимающим взглядом. И тогда она увидела на груди музыканта желтую картонную звезду.
Сколько прошло времени? Она потеряла ему счет. Ей хотелось закричать, по лицу текли слезы. Снова лилась музыка. Звуки достигли немыслимых высот. Скрипка пела реквием безумному миру, изломанный крест человеческих страданий по-прежнему катился на восток; казалось, еще немного, спящий Бог наконец-то проснется, все поймет — и тогда небеса ответят на языке той самой, давно обещанной трубы.
«Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби…»
Песня внезапно оборвалась. Последний аккорд был резкий и страшный. Человек опустил руки, в его глазах блестели слезы. Он медленно провел ладонью по скрипке, словно погладил ее, как живое существо, и затем поднес к губам. На несколько секунд воцарилась тягостная тишина. Затем раздался удар о дерево, и в воздухе повис стон изуродованного инструмента.
Каким-то чутьем она вдруг поняла, что сейчас должно произойти, и в ужасе бросилась бежать вглубь леса, подальше от оранжевой поляны… Когда совсем стемнело, она вернулась к тому месту. Всплыла луна. Труп музыканта висел в полуметре от земли, где лежала его разбитая скрипка. На груди человека, едва различимый во тьме, нагло и торжественно красовался кусочек желтого картона.
Время остановилось. Тишина повисла над миром. Над всей Вселенной… Все вокруг замерло: и небо, и земля. Она тихонько подошла к месту трагедии. В лицо человека смотреть не стала. Точнее, не смогла. Никто никогда не будет знать его имени! Ничего не останется. Вообще ничего. И только одно сохранит истерзанная память. Шершавая складка темно-синих брюк. Она прижала к себе ноги висящего, коснулась щекой холодной ткани. Хотела было всхлипнуть сильно, даже завыть… Но смолчала.
***
Слепой старик слыл ясновидцем. Бабы, тайком от всех, часто приходили к нему. Вопросы, как правило, были одни и те же: «Жив ли?» и «Когда вернется?» В руках старик обычно держал очень древнюю книгу, страницы которой, того и гляди, разлетятся в прах. Он приветствовал посетителя, затем медленно водил рукой по переплету и вскоре впадал в транс. Тогда правая рука ясновидца раскрывала книгу на нужной странице, ладонь касалась текста и замирала в воздухе, а голос старика менялся: высокий и дребезжащий, он становился тихим и вкрадчивым, с приятными бархатистыми нотками. Он начинал говорить, и в большинстве случаев (пожалуй, исключений никто не знал) все сказанное сбывалось.
«Денег у тебя нету, — сказал он очередной посетительнице, робко застывшей на пороге. — Я бы и не взял с тебя деньги. А хлеб оставь себе». Заметив, что женщина плохо ориентируется в темном помещении, слепец указал ей, где следует включить свет. Затем предложил сесть. Гостья молча опустилась на стул.
Что-то необычное было в новой посетительнице. Своим внутренним зрением, недоступным обыкновенному человеку, ясновидец определил две полосы, одну — ровную, серебристую, и рядом с нею — черную, напоминавшую разверстую бездну. А где-то поблизости он ощутил присутствие некой светлой тени, но так и не понял, имела ли она отношение к его гостье.
Книга раскрылась на нужной странице. Старик увидел длинный луч, уходящий в далекое будущее. Рядом с этим лучом находился другой, тоже очень длинный, но он обрывался чуть раньше. «У тебя будет долгая жизнь», — произнес слепец. Такие слова всегда приятно говорить и, тем более, приятно слышать! Но женщина безмолвствовала. «Муж твой вернется с войны, — продолжал старик. — Вам предстоит еще одна дальняя дорога, но она будет последней. Потом — долгая жизнь. Очень долгая жизнь. Вместе».
Говорить больше не хотелось. Старик в последний раз взглянул на то, что, по его мнению, являлось линией жизни этой женщины. И тогда внезапно ему показалось, что над его головой завертелся стальной диск, издавая омерзительный лязг и скрежет. На странном диске располагались небольшие бесформенные куски металла — и все это вращалось, дребезжало, он слышал чей-то визг, хохот… Затем видение исчезло, лязг металла преобразовался в тихий свистящий звук. Он обернулся — и в тот же момент на его голову обрушился гигантский искореженный молот, а может, и какой другой предмет, он толком не успел разобрать, но вот что отчетливо услышал из далекого будущего: «Проклята… проклята… проклята…» — отдавалось эхом в голове.
Старик усилием воли вышел из транса. Он так и не сумел разгадать того, что увидел. «Остерегайся железа», — только и произнес ясновидец.
***
От возможных репрессий ее спасли крысы: полчища омерзительных тварей, в числе прочих болезней, принесли туляремию. Когда начались повальные аресты, и тюрьма переполнялась «немецкими шпионами», «пособниками врага» и прочее, прочее, она находилась в бессознательном состоянии. Лицо, искаженное до неузнаваемости, напоминало гипсовую маску, руки бессильно лежали поверх одеяла. Возможно, что ее сочли мертвой. По крайней мере, некто в военной форме беззлобно выматерился, отвернувшись от недвижно лежащего тела, затем пошарил глазами в поисках наживы — не пропадать же добру! — но ничего достойного не нашел, швырнул с досады на пол жестяную банку, служившую тарелкой или миской, и протопал к выходу. Больше ее никто не беспокоил.
Ребенок побирался. К вечеру на стол вываливались всяческие отбросы, из которых надо было выбрать все, что мало-мальски пригодно для еды, и потом варить похлебку.
Наверное, только необъяснимая живучесть позволила ей еще раз выкарабкаться с того света. Но, несмотря на крайнее истощение, нужно было снова работать, в противном случае они бы долго не протянули. Ее направили в колхоз. Тяжелее всего было вдыхать легкий аромат парного молока, тотчас вызывавший в памяти довоенное время. Нет, не то. Тяжелее всего — не иметь никакой возможности напоить им ребенка… Но не надо об этом думать! Есть лишь одна привычка — делать в с е, стискивая зубы. Ведь уже не так страшно, все-таки — не немцы, все-таки — среди своих…
Неожиданно вышел приказ о перемещении эвакуированных из Ленинграда. Собрав нехитрый скарб, они с сыном двинулись к железнодорожной станции. Какая-то сумятица возникла возле стоявших там вагонов. Толком нельзя было разобрать, что же происходит. Но интуиция тотчас же подсказала: не приближаться. Они замерли. Опасность была впереди. Оглянувшись, они увидели рядом полуразрушенное строение и мгновенно схоронились в каменных руинах. А потом, с осторожностью лесного зверя, стали осматриваться, бесшумно ступая по цементной крошке.
Это снова были н е т е люди? Или же они сделали что-нибудь н е т о?
Солдаты штыками подгоняют толпу к вагонам. Женщины в черных платьях. Незнакомый гортанный язык. Старики и дети не могли идти так быстро. Плач. Выстрел в воздух. Наступившая следом гробовая тишина. Хруст — кто-то случайно наступил на оброненного целлулоидного пупса. Розовое бесформенное пятно на земле.
Вагоны забивают досками. Мерный стук железа по дереву — гвозди входят с одного удара по самую шляпку. Смех солдат. Монотонная брань. И — молчание в лицах людей. Молчание их к р и к а.
***
Стекольный завод, место ее новой работы, находился в нескольких километрах от города, и по весенней грязи иного маршрута, кроме как вдоль железной дороги, не существовало.
Было холодно, особенно по утрам. Эшелоны, битком набитые н е т е м и людьми, шли — или часами, днями стояли на железнодорожных путях. В теплушках находились, в основном, женщины всех возрастов, старики и дети. Двери завязаны колючей проволокой, окна оплетены ею же. На остановке через два-три вагона с обеих сторон эшелона стояли вооруженные солдаты войск МВД и постоянно обещали стрелять в любого, кто приблизится. Из вагонов были слышны крики, стоны, шепот с просьбами о воде, еде и необходимости вынести трупы, но никто этого не слушал, а солдаты в большинстве своем по-русски не понимали, за исключением: «Стой, стрэлать буду!» В воздухе стоял жуткий смрад.
Около трех или четырех недель (казалось, что конца тому не будет) ей приходилось проходить мимо вагонов на том минимальном расстоянии, которое допускалось конвоем. Один раз она видела, как конвоиры избивали женщин, пытавшихся кинуть в окно куски хлеба и бутылки с водой. Били прикладами автоматов и ногами. К женщинам пытались подбежать их дети, до этого стоявшие в стороне, но и их сбивали с ног, правда, только кулаками.
По дороге туда и обратно она собирала старые окурки, так называемые «бычки», которые потом разворачивались, из них высыпался табак на самокрутки; последние позволяли хоть как-то заглушить голод.
…А Бог по-прежнему спал. Он дремал, этот седобородый старик, безучастный ко всему, что творится в мире. Какой-то Ангел, правда, на мгновение приоткрыл глаза, смутно глянув куда-то вниз, сквозь облака — да так, впрочем, ничего и не разобрав, зевнул — и снова погрузился в сладкий сон, положив под голову свою драгоценную трубу из начищенной до блеска меди…
***
Поезд медленно шел по пути, вдоль которого стояла битая техника, внизу были танки и бронетранспортеры, на них автомобили, а выше — орудия, пулеметы и прочая мелочь. Все это было выше крыши вагона и имело ужасный вид, но самое страшное — это запах трупов, крови, гари, паленой резины, то есть запах т а к о й Смерти, какую и вообразить невозможно. Этот коридор, в котором они ехали, как в тоннеле, невозможно было представить нормальным человеческим разумом…
Ее бесконечные мытарства завершились в небольшом украинском городке. За это время она успела превратиться в настоящую старуху с полуседыми волосами и жесткой складкой возле губ. Часто приходилось выполнять самую тяжелую работу, ни о чем не спрашивая и ни на что не надеясь. Она окончательно изувечила суставы: руки распухли и плохо слушались. Но хуже всего было то, что мальчик вырос из своей прежней одежды, а на новую катастрофически не хватало денег. Какой-то сердобольный дедок сжалился и подарил довоенные обноски. Пришлось укорачивать, латать дыры.
Перед тем, как уснуть, она долго лежала с закрытыми глазами. Сон наступал лишь после того, как в памяти проходила долгая череда образов. Старухи, посылающие кому-то вслед проклятья своим беззубым ртом, тела собак со вздувшимися животами, снег, на котором внезапно начинает расплываться пятно бурой крови, люди, изъеденные вшами… надо перестать думать — но нет сил, корабль плывет, куда дует ветер… Она задремывает. Фаза наступившего было покоя сменяется ощущением мгновенного провала в бездну. Тело вздрагивает, глаза снова раскрыты, сердце колотится… Пара минут отдышаться. И — уже спокойно. То, о чем никому не скажешь. О чем никто не спросит. Не из-за того, что он был калека. Она ведь хотела оставить этого ребенка у себя! Просто они голодали тогда. А в детском доме давали гарантированный паек. Пришлось расстаться. Мальчика звали Миша… Так хочется думать, что он остался жив!
И тогда в памяти начинают раскрываться уже совершенно иные образы, наполняя истерзанную душу предчувствием долгожданного мирного бытия.
Когда объявили, что война окончена, директор местного завода пожертвовал цистерну спирта. Пили все, без ограничения. Вскоре началась пальба. Люди кричали, смеялись, плакали. В этот день никого не удивляла пляска стариков и калек, вид пьяных детей, валявшихся где попало. На несколько часов люди забыли о времени и жили одним моментом. А позже пришло: весна, цветущие сады, тепло, и это сливалось с надеждой на то, что н и к о г д а уже ничего подобного в мире не повторится.
***
Человек стоял на платформе, тяжело опираясь на трость. На нем мешком висела одежда, тускло поблескивали стекла очков, и все же вид его говорил о глубокой радости, которую трудно было сдерживать.
Неровное сбивчивое дыхание. Он закурил, пристально глядя на вокзальные часы. Поезд опаздывал. Серые от пыли воробьи деловито искали крошки снеди, вороша мусор, кое-где валявшийся на земле. Человек улыбнулся и подмигнул воробьям. Рука его нервно мяла папиросу. Семья возвращалась домой, в свой родной город. Он вызывал в памяти образы жены и сына. Мальчик, наверно, здорово вырос за эти четыре года!
А потом ему показалось, что по платформе шествуют две живые тени, и слово «папа», произнесенное маленьким заморышем в застиранной до дыр одежде, относится не к нему вовсе, а к какому-то совершенно другому человеку.
***
Но в Ленинграде они задержались ненадолго. Все было готово к отправлению на новое место жительства. Ему приказали переехать в Прибалтику: стране нужно было развивать науку на периферии. Предложили хорошую должность, гарантировали жилье. Семья не рискнула оспаривать распоряжение властей, это было просто опасно. К тому же, комнатку, в которой они жили до эвакуации, самочинно заняли какие-то другие люди, оставшиеся после войны без крова. Можно было, конечно, постараться их выставить. Потребовались бы справки, бумажки, свидетельства… Напрасная суета! Не осталось н и к о г о из прежних друзей и родных. Да и сам город порой напоминал им огромное кладбище.
Семейный совет продолжался недолго. Они приняли свою судьбу.
***
Новое жилье также оказалось коммунальной квартирой, но в ней насчитывалось всего шесть комнат. Окна выходили на центральную площадь. С самого раннего утра здесь закипала бурная жизнь. Сновали люди с лотками, цокали копыта лошадей — крестьяне везли свой товар на рынок.
На оконном карнизе уютно устраивались голуби. Сначала раздавался шелест крыльев, потом легкое царапанье коготков по железу и, наконец, начиналась утренняя симфония: птицы надувались, превращаясь в сизые шары, и заводили свою простую мелодию. Иногда к ней примешивались звуки колокольчика, доносившиеся с улицы.
За окнами разговаривали люди. Она прислушивалась к незнакомым голосам, ей нравилась их легкая, отрывистая манера произносить слова. Речь была музыкальной и немного напоминала журчание ручья над каменистым грунтом. Снова хотелось рисовать звуки. И она непременно осуществила бы задуманное, если бы не одно обстоятельство.
Большинство людей, встречавшихся на улицах города, смотрели ей вслед с плохо сдерживаемой ненавистью. Иногда они что-то говорили в ее адрес, но тогда их легкое staccato превращалось в змеиное шипение. И она снова начинала ощущать в себе чувство вины — на сей раз перед этими людьми, и не понимала, что же происходит.
Как-то раз она разбирала в своей комнате шкаф, оставленный прежним хозяином. Из кипы бумаг и газет неожиданно выпала красивая открытка, цветная, со смешными ангелочками и рождественской елкой. Захотелось узнать, что же на ней написано. Соседка из квартиры напротив, с которой она иногда сталкивалась на лестничной площадке, знала оба языка и могла помочь.
— Здесь жил богатый господин с женою и детьми, — бесстрастно произнесла женщина. — Ему принадлежала вся квартира.
— Но где же они теперь?
Молчание. Следом:
— Теперь здесь живете вы.
— Их… убили?
Молчание.
— Их убили… немцы?
Молчание.
К соседке подошла пожилая дама и сказала что-то с едва скрываемой злобой. Обе женщины презрительно хмыкнули и поджали губы.
— Как звали хозяина?!
— Господин Рауд. На вашем языке это означает «железо».
Хлопнула дверь.
Ей хотелось схватить пожитки и бежать на край света. Стальной диск завертелся над головой, наполняя пространство дьявольскими звуками…
…она снова была маленькой девочкой, и ее снова били по лицу — за то, чего она никогда не совершала…
В этом городе не было людей, только деревья, цветы, ручные птицы, фыркающие лошади, звуки колокольчика по утрам… людей нет, люди безумны, все люди безумны…
— железо… остерегайся железа…
***
Скромный студент, читавший по ночам свои заумные книги, молодой ученый, солдат, прошедший всю войну, получивший ранение в грудь — пуля прошла навылет и задела легкое. Он старался преодолевать и немощь, и усталость. Несколько лет кропотливого труда. Наконец — доктор наук, профессор… Его талант совершенствовался и требовал иного масштаба.
Семья снова вернулась в Ленинград. Сын закончил школу и готовился поступать в институт. Они получили отдельную квартиру, наняли домработницу.
Ему хотелось, чтобы кто-нибудь из родных разделил его любовь к математическим истинам, почувствовал бы всю значимость выводимых им формул. Мир изменчив, а законы бытия остаются постоянными, они перетекают к нам из иного измерения и ложатся на белые листы бумаги в виде знаков и символов, начертанных черной тушью. Иной раз казалось, что нет никакой так называемой философской «спирали» — только бесконечное число природных явлений, замкнутых в круг, да такое же количество лучей, или прямых линий, уходящих в бесконечность. Он начинал чувствовать Пространство и Время совершенно по-иному, постигая законы единого, пронизывающего их ритма. Стоит лишь ощутить ту наивысшую точку бытия, в которой разум может объять всю Вселенную. Точку Бога… Но подчас не хватало нужных книг, мешало старое мировоззрение — и он бился, как рыба об лед; иногда же знания приходили к нему сами — внезапно, яркой вспышкой света. И он терпеливо ждал таких мгновений и благословлял день и час, когда это происходило. Живи он в другое время — или гораздо раньше, или немного позже, возможно, он стал бы известным философом.
По вечерам, когда жена и сын уже спали, он выходил на кухню, ставил перед собой стеклянную пепельницу, доставал папиросу, долго-долго разминал ее, пока табак не начинал крошиться на стол, наконец, закуривал — и снова устремлял в пространство свои подслеповатые глаза. О чем он думал? Дым тянулся тонкой струйкой в приоткрытую форточку, тикали ходики, капала вода из крана. С улицы доносились голоса запоздалых прохожих, иногда пьяница старательно пел песни своим дребезжащим голосом…
Он мог бы сидеть так до утра, ибо это были самые прекрасные моменты его послевоенной жизни.
***
Первая невестка оказалась полной дурой. Она постоянно чего-то требовала, все ей не нравилось — и то, как приготовлена пища, и то, что ее с мужем поселили в проходной комнате, хотя угол был отгорожен двумя шкафами и ширмой. К тому же, она мало читала, совсем не умела рисовать и, вдобавок, постоянно пела деревенские песни своим резким крикливым голосом.
Однако, что ни говори, личико у невестки было миловидным. Впрочем, все молодые девицы ее возраста поначалу кажутся симпатичными! Вот посмотреть бы на нее лет этак через двадцать… Несомненно, превратится в толстую, безвкусно размалеванную бочку. А голосок станет еще более отвратительным и наверняка приобретет визгливые нотки. Эх, поторопился сыночек с выбором!
Она была недовольна сыном. Ей казалось, что сын должен стать знаменитым, развить свои скрытые таланты. Но все его таланты были так хорошо скрыты, что почему-то не развивались вовсе… Ну а ей самой все реже и реже приходило в голову сесть за пианино или взять в руки кисть и краски. Возможно, дело было в быте, поглотившем ее без остатка? Вдобавок, еще и суставы часто ныли, особенно по ночам… Так что она ограничивалась любыми мелодиями, которые удавалось отыскать в небольшом радиоприемнике. Иногда, устав от домашних хлопот, засыпала, крепко прижав к уху маленький черный ящичек, бормочущий сам с собой на разные голоса.
О, эта удивительная жизнь! Роль хозяйки дома, профессорской жены. Безграничная власть во всех сферах быта, от тряпок и кастрюль — до самых глубоких тайников в душах мужа и сына. Постепенно происходила новая стадия метаморфозы. Сначала появилось некое подобие домового в женском обличии. Перманент — полуседые волосы вьются, как у негритянки. Это было новое, это ей нравилось. Домашний халат, тапочки. Извечная папироса во рту. Жесткая складка, тонкие, почти бескровные губы. Но с годами взгляд становился все более хищным: словно она жаждала обрести иной объект для проявления своих нереализованных страстей. Она искала его среди всего «царства» нужных и ненужных вещей, и не находила. Подчас сердилась безо всяких причин, могла уйти из дома, со всей силы хлопнув дверью. У нее была огромная, почти нечеловеческая сила, рвущаяся наружу — и зияющая, ничем не заполненная п у с т о т а. Так продолжалось до тех пор, пока…
***
…сын не женился вторично. К тому моменту ему было уже далеко за тридцать. Молоденькая женщина робко переступила порог дома и сразу же потупила глаза, пытаясь скрыться от въедливого взгляда свекрови. Она оказалась молчаливой, работящей, почти не реагировала на колкие замечания. Сын воспрял духом. После обеда он обычно проводил беседы с женой, что-то вещал, и она кивала головой и тихо улыбалась.
В начале ноября следующего года у невестки начались родовые схватки. Впервые на лице свекрови отразилось искреннее сострадание, она даже вызвала машину и сама сопроводила невестку в больницу.
Ночь прошла в нервном ожидании. Старая женщина зачем-то приоткрывала все ящики комода, садилась на подоконник, закуривала, постукивая костяшками пальцев по дереву. Муж и сын спокойно спали в столь поздний час. Муж вообще последнее время пребывал в ином измерении, чего ему нервничать! А сын — тот был самодовольно уверен: мать-природа сама справится со всеми проблемами, так что незачем попусту волноваться.
Она презирала их обоих. К утру весь стол был завален окурками. Наконец раздался долгожданный телефонный звонок. Невестка благополучно разрешилась от бремени и попросила акушерку позвонить домой. Та неохотно выполнила просьбу. Хриплый голос сообщил, что родилась девочка.
Окончание следует
Рисунок автора
Если вам нравится наша работа — поддержите нас:
Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)