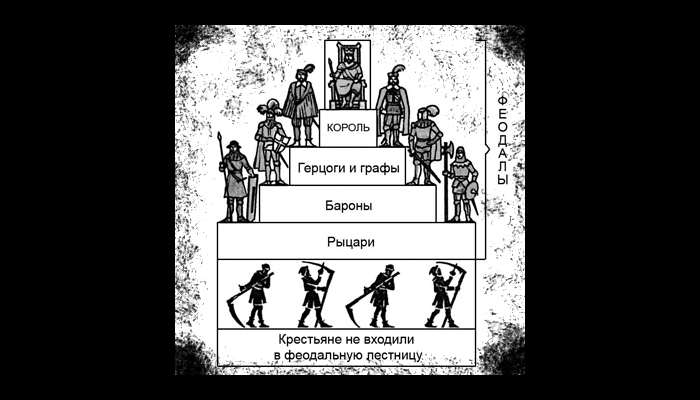Розанов и Ницше — самые сильные, самые опасные враги христианства
14 декабря 2018 Сергей Волков
Сергей Александрович Волков (19 февраля 1899 — 21 августа 1965) — мемуарист, поэт, библиотекарь Московской Духовной Академии. В 1917 году поступил в МДА. После ее закрытия преподавал русский язык, литературу, историю СССР в средних школах, ремесленных училищах и на различных курсах г. Загорска.
***
Из дневников
27 марта 1943 г.
Вчера вечером у себя дома при коптилке начал перечитывать «Темный лик» Розанова. Жуткая книга! Таковы же его «Люди лунного света». По-моему, за последние несколько столетий он и Ницше — самые сильные, самые опасные враги христианства. Вся критика остальных — детский лепет и бросание мелких камешков, тогда как эти двое низвергают на церковь и даже на идеальное христианство громы и молнии, подтачивают самые его корни — Евангелие, не оставляя камня на камне от того, что казалось незыблемым навеки.
На меня еще в 1916-1917 гг. сильно, почти ошеломляюще подействовали эти два автора. Но тогда я был молод и с легкомыслием молодости не останавливался долго на этих жутких проблемах. Теперь же, когда прожито полжизни, а, может быть, и значительно больше, когда ум тянется только к подлинному знанию и желает углубляться в суть, отклоняясь от всего случайного и поверхностного, — теперь эти мысли тревожат и заставляют задумываться, искать выхода из открывшегося тупика.

Странная вещь: когда я читаю Ренана — я на стороне Христа и христианства. Тем более, когда я читаю такую вещь, как «Марий Эпикуреец» У. Пэтера. Тихое веяние света вечернего — угасающего античного мира — сливается с утренней зарей — нарождающимся христианством. Еще нет дикой аскезы Сирии и Египта, не появились лицемерные или безумные богословские утонченности и хитросплетения тяжеловесной Византии. Все дышит ясностью, прелестью и чистотой ранней весны. Здесь христианство — первоцвет, неповторимый никогда впоследствии в широком масштабе и доступный, может быть, лишь отдельным кристально-чистым душам Сергия Радонежского или Франциска Ассизского. И это христианство так близко мне. Иногда, впрочем, думается, не вымышлено ли оно такими людьми, как Ренан, Пэтер или Амиэль? Последний своим интимным дневником тоже значительно усилил мою любовь к ясному и душевному христианству кротких людей, которое так не похоже на суровое учение всяческих церквей. Мне легко и отрадно дышать и жить в этом тихом свете святой славы, который не грозит, не проклинает, не горчит радости мира. И если в нем есть легкая нота грусти осенней, то это лишь увеличивает и углубляет сладостную остроту приятия этой скоропреходящей, часто трудной и даже жестокой, но, в основном, — милой и желанной земной жизни. Мое языческое пристрастие к Матери-Земле с ее полнотою и красотою не попирается таким христианством, а приветствуется, углубляется и возвышается во имя высшего вечно начала.
Но когда передо мной возвышаются стены и башни града церковного со всеми рвами, укреплениями и бойницами, с его стражами, вооруженными до зубов, готовых сокрушить нечестивых (а нечестивые все те, кто хоть на йоту уклоняется от каменной и давящей дух догмы!), — то мне становится не только досадно, тяжело и больно, хуже — я начинаю чувствовать полное безразличие! Равнодушное спокойствие овладевает душой, и она безразлично проходит мимо этих воплей и этого скрежета зубовного: это — не её мир, он ей противен, жалок и чужд. Она идет своим путем тихих дум, прекрасных озарений, мудрых созерцаний и кротких благоговений.
Во мне живет заветная мечта синтеза, синтеза язычества и христианства, платоновского идеализма и евангельской задушевной красоты. Эти мечты сквозят и в «Юлиане» Мережковского и в «Алтаре Победы» Брюсова. Они почти осуществлены в «Марии Эпикурейце» Иэтера; во всяком случае, если их нельзя вполне осмыслить, то можно вполне почувствовать в благородных образах и проникновенных словах этого исключительного романа. И мне думается, что если бы я смог когда-нибудь выразить всё то, что я мыслю по этому поводу, то получилась бы неплохая поэма.
Сильно тревожат меня мысли о самой сущности христианства. Во-первых: кто был Христос? Был ли он действительно Мессией, исполнившим иудейский Закон и превзошедшим его, или — великим Разрушителем этого Закона и создателем своего, не имеющего никакой связи с духом предшествовавшего? И не прав ли в своей безумно-дерзкой догадке Розанов?!
Во-вторых: не является ли христианство фактом провинциального порядка, геономическим только, а на других планетах — всё иначе, совершенно не похоже на То, что было и есть у нас? Тогда возникают вопросы: как и что там есть и было? Не являются ли Бог и Христос лишь эонами, как об этом мыслили гностики? А если и на тех планетах был аналогичный процесс творения, грехопадения, искупления, то не будет ли тогда это слишком банальным и механичным, почти штампованным для мировых беспредельных пространств и времен? Вот эти проблемы, которые атеистам покажутся нелепыми и ненужными, а фидеисту-догматику дерзкими, безумными и богохульными, часто занимают мою мысль. В одной из них я встречаюсь с Розановым и то соглашаюсь с ним логически, то душевно отталкиваюсь от него, а относительно другой я нигде, ни у одного автора не встречал никакого намека. Обе проблемы жизненно важны для меня. В зависимости от их осмысления и переживания в себе я чувствую себя то верующим, то неверующим, а чаще всего — скептиком, бредущим по раскаленной пустыне с томящей, но неутолимой жаждой знания и веры…
31 марта 1943 г.
Книга Розанова по-прежнему продолжает волновать меня. Мысли о христианстве неотступно ставят вопрос за вопросом, чувствую, что надо попытаться снова и снова ответить хоть на некоторые из них.
Розанов, безусловно, прав, когда говорит о «темных лучах в христианстве». А последовательная мысль продолжает: темные лучи в христианстве составляют его сущность, без них оно — пустое место, розовая водица морализирующего протестантства. Что же тогда делать миру? Отречься от себя, от жизни, ото всего, чтобы приобрести «жемчужину царствия небесного»? А чтобы быть последовательным и до конца довести свои выводы, всем уйти из мира, стать девственниками, нестяжательными, наконец, запоститься до смерти… Но ведь то — намеренное коллективное самоубийство! Если весь мир превратится в монастырь, если прекратится рождаемость, то зачем тогда какое бы то ни было творчество? Всё будет стремиться к одной точке — к смерти, и чем скорее, тем лучше… Итак, ясно одно: мы живем и любим мир, радуемся ему, производим товары, создаем ценности, творим и оставляем после себя потомство только потому, что мы плохие христиане, не умеющие и не смеющие полностью отдаться христианскому учению и осуществить до конца призыв Христа: отречься от мира, от ближних, от самих себя и пойти за Христом. Если же мы захотим и сможем этот идеал осуществить во всей его полноте, — человечество должно перестать существовать. И опять-таки прав Розанов, говоря, что только потому, что мы плохие христиане, самосожжения и самозакапывания, запощевание, и вообще самоубийства мгновенные, в экстатической возбужденности или методом медленной, но неуклонной аскезы, являются редкими исключениями, которые ужасают человечество, вызывая речи о психической невменяемости решившихся на это дело людей. Однако то, что мы считаем сумасшествием, оказывается сутью проповеди Христа. И апостол Павел подтверждает это, говоря, что мудрость учения Христова «для эллинов — соблазн, для иудеев — безумие». Верно. И эллины, и иудеи, да и вообще все люди, за самыми редчайшими исключениями, хотят жить. Несмотря на все трудности, печали, болезни и воздыхания, они все-таки хотят жить. И если они часто призывают смерть, как избавительницу, то всё же большинство, подавляющее большинство встречает ее приход, как старик в известной сказке, который стал просить ее помочь ему поднять вязанку дров… Разве только невыносимые физические мучения заставляют человека желать смерти и радоваться ее приближению. Да и то, пожалуй, не всегда. Мы ведь так мало знаем о последних минутах жизни людей, оказавшихся в таком безвыходном состоянии.
Маленькое отступление. Когда на моих глазах умирала и умерла моя Мама, и я был свидетелем этого конца, то этот вечер 18.1.1935 года навсегда запечатлелся в моей памяти. Эти немногие часы потрясли меня до основания и раз навсегда изменили все мое внутреннее существо до неузнаваемости. Настолько изменили, что это сказывалось во всем моем поведении, так что многие спрашивали меня (не зная о постигшей меня утрате) значительно позже, что такое со мной произошло, отчего я стал совсем другим? И если впоследствии боль и горечь как бы затихли, рана зарубцевалась, я живу, мыслю, работаю как будто по-прежнему, то внутри всё цело, всё больно, все грустно так же, как и в тот тяжелый день. И стоит только вспомнить — все оживает до мельчайших подробностей, а как задумаешься — невыносимый ужас и смертная тоска сжимает сердце и леденит мысль. Последнее с годами бывает реже, но действует, пожалуй, еще сильнее, чем тогда, при событии…
И вот я думаю: как мало мы знаем не только о смерти, но даже о предсмертных часах людей. Меня и раньше интересовали эти моменты, а после смерти Мамы они то и дело неотступно занимают мои мысли. Что чувствовали, о чем мыслили, что говорили люди в последний день, в последние часы и минуты своей жизни? А особенно великие люди, те, к которым мы привыкли присматриваться и прислушиваться при их жизни! Ведь если в жизни они могли иногда лицемерить, лукавить, надевать маски из тех или иных соображений, то в такой момент они, конечно, были предельно искренни. Здесь было невозможно и не нужно лгать…
«Маленькое отступление» разрослось и невольно привело меня опять к начальной теме: христианство основано на страхе смерти, христианство — попытка победить смерть. Это общераспространенные положения. И рядом с ними стоят положения Розанова: христианство есть нелюбовь к жизни, отрицание жизни; христианство — проповедь неизбежной смерти, приближения к смерти или путем экстатического мученичества или методом медленной аскезы; христианство — проповедь самоубийства для человека и человечества. Если этого не произошло и не происходит, то только потому, что мы, в сущности, — не христиане, а двоеверы, подобные древним селянам: на словах, формально — христиане, на деле, в сущности — язычники… Так что ясно и неизбежно вытекает одно: если человек живет спокойно заботами дня, среди семьи, своих дел, то он спокоен, уравновешен, но он чужд христианству, он, попросту говоря, вовсе не христианин. А стоит только ему по-настоящему задуматься над учением Христа и захотеть вспомнить его заветы, то тотчас же начинается крушение всего его жизненного уклада, приводящее его почти всегда к неизбежной гибели, часто при этом преднамеренной.
Отсюда следует одно: христианство действительно губит мирную жизнь, разрушает устои цивилизации, разоряет семью, обесцвечивает и отравляет источники культуры. Христос это выразил своими словами «не мир я принес на землю, но меч».
Вслед за этим появляется другая мысль: кто же был Христос? (Я пока отстраняю гипотезу Древса; о ней и о ее исторической, а главное психологической несостоятельности я буду говорить позже.) Во всяком случае, после книг Розанова невольно возникает заново вопрос об отношении Христа к иудаизму, к иудейской традиции, к идее о Мессии, к учению о едином Боге-творце, Иегове. Здесь являются неизбежно мысли такого огромного значения, которые трудно высказать сразу… В ближайшие дни вернусь к этой теме и напишу просто и без страха всё, что мыслю по этому поводу. «Если буду жив», словами Толстого, как любила говорить и моя приятельница С.И. Огнева в последние годы своей жизни.
Источник: Волков С.А. Возле монастырских стен. Мемуары. Дневники. Письма. М., Издательство гуманитарной литературы, 2000.
Читайте также:
Если вам нравится наша работа — поддержите нас:
Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)