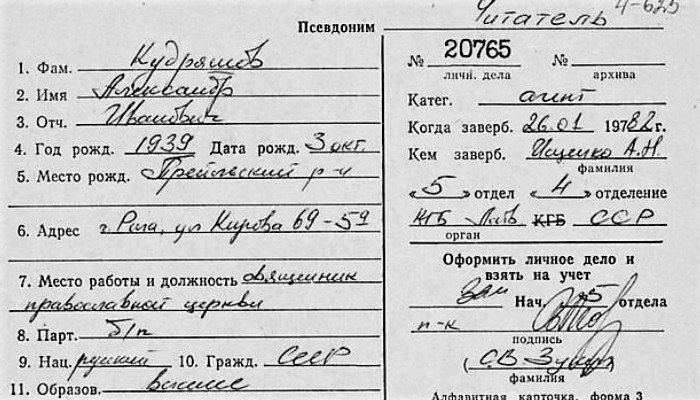«Возле мамы тепло…»
7 октября 2023 Татьяна Терентьева
«Когда технологии заменят живое общение, мы получим поколение идиотов» (А. Эйнштейн)
Что делать, если «замуж невтерпеж», а женихов — раз-два и обчелся, все больше мелкие одинокие чиновники, помешанные на амбициях: слабенькие, с ураганом переживаний, сомнений, страхов и фантазий в душе. Вместо родословной у них, как у господина Голядкина, стол в присутственном месте, а вместо отца — начальник департамента. Брутальные мужчины, уверенные в себе, своем будущем, в собственных решениях и действиях, стали массово покидать республику еще в девяностые, после развала лесной, угольной, нефтегазодобывающих отраслей. С тех пор за Сыктывкаром, столицей Коми края, прочно закрепилась репутация города невест. Проще было на Луну слетать на бумажном змее, чем найти здесь свою вторую половинку. А возраст поджимал.
Асе через год исполнялось двадцать пять лет, и перспектива прослыть старой ведьмой внушала страх. Девочку с малых лет ориентировали на супружескую жизнь. «Один человек — полчеловека, два человека — человек», — наставляла ее покойная бабушка. В молодости та была настоящей красавицей — от женихов отбою не было. Сваты пришли, любила вспоминать бабушка, палкой в дверь стучали, разговор вели иносказательно, чтобы уберечь от дурного: «Мы видели оленя и шли по его следам. И эти следы привели нас сюда». В день венчания невеста выглядела как настоящая княгиня: на ней был парчовый сарафан и головной убор, богато вышитый бисером. Свадебный пир длился несколько дней. «Почему так долго?» — спросила Ася. — «Для того, чтобы два рода слились в один».
Корзины с цветами, фотографы, салюты и свадебный кортеж из Камазов, а лучше — из оленьих упряжек… Ася мечтала надеть если не парчовый сарафан, то простой «брачный» комбинезон или малицу из оленьей шкуры точно, лишь бы поднять свой общественный статус и укрепить такие понятия, как семья, брак и домашний очаг — символы благополучия в обществе.
И когда на горизонте появился прекрасный принц в шикарном авто и поманил ее пальчиком, она обомлела. Ее не смутило, что у кавалера усы были закручены кверху, как у Мефистофеля, а глаза, когда он мигал, метали огненно-красные искры. Этот потрясающий эффект в театре, например, достигался тем, что на веки наклеивали обычную фольгу, но девушка не хотела ничего знать про тайну фольги и оперные шаблоны. Олег был ловок и дьявольски умен. Ася мила и чертовски талантлива. Они были очарованы друг другом…
Их творческий союз продержался пять лет. За это время они, работая на телевидении, создали немало исторических мифов о героях труда и спасителях Отечества — ярких, поучительных, мудрых. Жили чужой жизнью, отодвинув свои на задний план. За пять лет Олег ни разу не предложил Асе свои руку и сердце. Общих детей он тоже не хотел — большие дети не хотят впускать в свою жизнь других детей.
Но, устав летать «Над городом», подобно Марку и Белле на картине Шагала, Ася решила приземлиться. Она была в тягости… Узнав об этом, Олег растерялся: «Я был без ума от твоего таланта, восхищался тобой, но при этом никогда не относился к нашей близости как к чему-то серьезному. Эта легкость для меня стала роковой, когда ты за меня решила распорядиться и своей судьбой, и моей. Так нельзя, ты совершаешь непоправимую ошибку. Ты меня использовала, словно я и не существую…» Ася слушала и чувствовала, как все сильнее отдаляется от него: «Мы оба использовали друг друга. Просто я не та, с которой ты хотел бы связать свою жизнь. А ребенка я оставлю. Для себя».
«Но ты не знаешь, какая может быть у ребенка наследственность…» — использовал Олег последний козырь.
Он родился в лагерном поселке. В Советском Союзе была самая большая концентрация лагерей и спецпоселков в Республике Коми — это очень удобно, недалеко от центра и климат суровый. Экономическое освоение Севера трудами заключенных, ссыльных, спецпереселенцев шло в те годы семимильными шагами. В Коми крае почти все крупные города, за исключением старого Сыктывкара, Усинска, выросли из лагерей: Воркута, Инта, Печора, Емва, Ухта, Микунь.
«Мой отец был подкидышем, — продолжал Олег. — По семейной легенде, его подбросили в детский дом при отступлении Белой армии в Харькове. Мне не было года, когда отец разбился на машине. Воспитывал отчим — человек с лагерным прошлым, тяжелый на руку. А мать меня никогда не понимала. Это странное сочетание: любила до самозабвения, а понимать — не понимала. Я был для нее сосудом исполнения ее личных мечтаний об умном сыне, к которому точно не имел отношения. Она радовалась оценкам, хвалилась ими соседкам. По выходным все забивали во дворе козла. Курили в основном самокрутки, у каждого был кисет с махоркой. Народ, преимущественно выживший после лагерей. Мы, совсем дети, тоже отчаянно курили. С шести лет. Еще делали пугачи, играли в лапту и в футбол, прикручивали веревкой коньки к валенкам. Взрывали бутылки с карбидом, резались в карты. У некоторых были голубятни. Сейчас смотрю на всю эту обстановку — мне она мила, но ведь крайняя разруха… Как будто вчера война кончилась…»
Ася была на пятом месяце беременности, когда Олег собрал вещички и уехал искать другой жизни. На прощание положил руку на ее выпиравший живот и тут же отдернул ее, как от удара электрическим током… После его скоропалительного отъезда малыш едва не «выпал из гнезда», словно пытался догнать беглеца. Но все обошлось. Ася много гуляла, успела перечитать всего Достоевского — тянуло: кого на солененькое, а ее на произведения с элементами фантастики, в которых писатель исследует внутренний мир человека и движения души. Когда ее с сыном выписали из больницы, папа приезжал посмотреть на него. «Человеческий детеныш…» — сказал удивленно, склонившись над детской кроваткой, и уехал, растворился в воздухе, как бесплотный дух.
Ильюша рос, и в год с небольшим выглядел как ребятишки, переодетые ангелами, на дореволюционных открытках «С Рождеством Христовым!»: такой же кудрявый, с ямочками на щеках и едва заметными крылышками за спиной. Малыш радовал маму забавными изречениями. «Все есть, что есть», — важно произносил он, прижимая к себе большую кастрюлю с черникой.
Детский садик запомнился тефтелями. Когда нянечка заставляла съесть тефтели, мальчик осторожно отодвигал от себя тарелку с круглыми шариками и говорил: «Я их стесняюсь…»
На Рождество ходили вместе в маленькую церквушку возле дома. Илья был непоседлив. Пока взрослые дяди и тети о чем-то говорили с Богом, он возился с седой, как лунь, кошкой, которая обитала при храме с допотопных времен, выбегал каждые пять минут на улицу и в праздничном вертепе из снега зажигал свечи пред святым образом, а когда уставал, забирался под тяжелые шубы — прихожане складывали их в углу, — и сладко засыпал… Однажды в сильные морозы они возвращались после службы домой. Ася, пытаясь согреться, прибавила шагу. Малыш едва поспевал за ней, а отстав, решил, наверное, что мама надумала сбежать от него, и горько заплакал: «Господи, помоги мне догнать маму!»
В школу сын пошел с радостью. Илья был пытлив, творчески одарен, вольнолюбив. Все сулили ему блестящее будущее. Был, правда, один звоночек: школьный психолог обратила внимание на то, что у мальчика наблюдается повышенная тревожность. Это особенно бросается в глаза по его рисункам, где много красного — цвета пожарной машины. Но Ася не увидела в этом большой проблемы. Глаза застилала слепая материнская любовь. Чуть позже учительница по пению посоветовала отдать сына в музыкальную школу: «У мальчика музыкальные пальцы, хрупкая психика, такие дети тонко чувствуют мелодию». Ася прислушалась к совету. Скрипичный ключ, басовый ключ, диез, бемоль, бекар, тона, полутона, такты, большие и малые секунды, сильные и слабые доли — нотную грамоту «брали штурмом». Труды не пропали даром. На экзамене в конце учебного года Ильюша виртуозно сыграл на пианино «Юмореску» Моцарта и получил свои заслуженные пять баллов. Мама была счастлива.
Во время летних каникул Ася с сыном ездили в гости к ее маме. Выйдя на пенсию, та купила домик в деревне, выращивала укроп, петрушку и старалась не заморачиваться проклятыми вопросами. Работник умственного труда в прошлом, она хорошо понимала, в какой тупик могут завести человека его собственные мысли. Но однажды не удержалась и спросила непутевую дочь: «Когда сын спросит „а где мой папа?“ — что ему ответишь?..»
По статистике у каждого пятого ребенка папа — космонавт и он следит за ребенком из космоса. У Ильюши образ отца долгое время ассоциировался с банкоматом. Олег при случае подкидывал им деньжат. «Это от папы», — говорила Ася сыну, пока технически сложное устройство выплевывало из своих недр шелестящие купюры. Рядом с банкоматом она чувствовала себя приблудной кошкой, которую хозяин подкармливает из жалости, но не берет к себе домой.
Потом пришло время, когда сын «заболел» отцом по-настоящему, как и все дети в этом нежном возрасте. Ася пыталась достучаться до Олега, звонила ему, писала письма, просила встретиться с сыном. Олег был против: «Я не могу. Разовые встречи ничего не дадут». — «Тогда скажу, что ты погиб на войне. Так будет лучше». — «Скажи…» — «И похороню тебя заживо… Не лишай сына надежды». — «Чего тебе не хватает? Помогаю по возможности, каждый день молюсь за вас».
Так совпало, что по его ли молитвам или по старости, но вскоре после этого умерла их любимая кошка Липа.
На очередную просьбу поговорить с сыном, дать почувствовать ему тепло отцовской руки, Олег ответил: «Я смертельно болен, дни мои сочтены…» Ася окаменела от неожиданности. Сын в это время стоял рядом и, затаив дыхание, смотрел на нее. «Мама, ты с кем разговаривала по телефону?» — «С бабушкой». — «Которая умерла?»
Очень скоро, впрочем, до нее стали доходить слухи, что Олег жив и здоров — хоть поросят об лоб бей. Еще говорили, что он женился, сделал головокружительную карьеру, стал большим начальником и со своими подчиненными обращался как английские колонизаторы в Индии с туземцами. Сотрудники за спиной «окрестили» босса «зовите меня просто Богом».
Когда сын учился в пятом классе, отец подарил ему персональный мощный компьютер. Подарок от «несуществующего» папы перевернул жизнь сына с ног на голову.
Вначале Илья играл за компьютером и «висел» в социальных сетях час, не больше, но скоро он мог спокойно просидеть за компьютером почти сутки, забыв поесть, помыться и даже вздремнуть. Компьютер с лихвой заменил ему не только отца, но и мать, друзей, школу. Игры с кровью, насилием, монстрами и зомби сменяли общение в чате с такими же ботанами и задротами, как он, и, казалось, этому не будет конца.
Но, по слову философа, «кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя». Машина, воплотившая в себе последние достижения науки и техники, равнодушно и методично разрушала мозг, психику, сознание сына, и мать ничего не могла с этим сделать. Ставила блокировки — он их взламывал, бранила последними словами — Илья отвечал тем же, пробовала заинтересовать его чем-то другим — он игнорировал все ее предложения, собиралась насильно оторвать от компьютера — сын становился агрессивным, хотела отвести его к психологу — он отказывался, просила папу по телефону повлиять на сына — он оставался глух к ее стенаниям, пыталась молиться, но умом понимала, что Бог не дворник, который будет разгребать снежные завалы на ее участке…
С грехом пополам окончив общеобразовательную школу, сын умудрился поступить в университет, но уже через год с небольшим перестал посещать занятия и выпал из среды обитания. Он с головой ушел в свой заколдованный мир и плутал там, потеряв всякую способность подниматься над второстепенными проблемами и заглядывать за горизонт. Беспомощность, постоянное откладывание дел — за что бы он ни брался, куда бы ни шел, он тут же утрачивал цель. Иногда цель вдруг становилась предельно ясной, но у юноши, лишенного базовых понятий о жизни, молниеносное достижение цели превращалось в химеру. Наступил момент, когда Илья перешел точку невозврата. На этом пике человеческой трагедии Ася увидела сон: по кругу от отца к матери, от матери к сыну медленно катилась граната с выдернутой чекой…
Случилось страшное: сын стал думать как компьютер, который перешагивает через все логические связи, более того — соблазнился тем, что сможет конкурировать с компьютером в решении задач. Он очаровал сам себя идеей, что, усвоив алгоритм компьютерной программы, наткнется на универсальный закон, который разом решит все проблемы: и его, и человечества. История Вечного двигателя и его изобретателей была ему не уроком.
«Должен тебя разочаровать. Это путь в никуда. Годы жизни будут брошены на свалку. Это огромное преступление перед Богом: получить дар жизни, способности, силы и затоптать их личной гордыней, возомнив, что ты — особенный, что все остальные ниже, хуже, глупее. Призвание есть у каждого, использовать его следует для дел во благо окружающих. Подумай над этой простой истиной. Многое в нашей жизни не хочется делать, но делать надо ради близких и из любви к ним». Эти слова, сказанные папой «удаленно», по чату, сын так и не услышал. Он давно сбежал от него в «иной лучший мир».
А ритуальные танцы с компьютером для Ильи закончились полным крахом. Вместо цифрового бессмертия он заработал попытку суицида: пробовал вскрыть себе вены, но что-то его остановило.
Завороженная страшной картиной разрушения единственного сына, Ася жила в дурном сне. Проблемы множились. Руководство телеканала, где она трудилась, решило идти в ногу со временем и полностью поменять концепцию вещания. Страна строила общество потребления, где человек превращался в маленькую шестеренку в рыночном механизме. Даешь вульгарное чтиво вместо классической литературы! Ток-шоу, дешевые сериалы и компьютерные игры вместо высокого искусства и воспитания молодежи! А еще — пропаганду роскоши, праздной жизни, разврата и жестокости! Под этими лозунгами телеканал должен был переродиться в супермаркет мужских увлечений, и Асе там не было места. «Ваш нежный голос и скрытые призывы к милосердию не вписываются в нашу политику», — сказал ей в доверительной беседе директор. Это следовало понимать так: «Таких людей, как вы, Ася, надо резать, потому что ни у какого человека не должно быть никаких преимуществ над людьми. Талант нарушает равенство. И вообще, вы способны размягчить сердце революционера, которое должно быть твердым, как сталь».
В таком же духе финский коммунист Рахия, которого разнесло после эстонской водки, беседовал с царь-басом Федором Шаляпиным во время одного застолья. Этот случай оперный певец приводит в своей автобиографии. Артист тогда взвился штопором, заиграла в нем царская кровь Ивана Грозного и Бориса, и он крикнул: «Встать! Навоз ты этакий! Кто ты такой, что я тебя понять не могу?! Я Шекспира понимаю, а тебя, мерзавца, понять не могу!» Федор Иванович готов был выбросить в окно финского коммуниста.
Ася тогда ушла с работы в никуда. Как точно подметил классик, люди, которые давно носят в себе горе и привыкли к нему, только посвистывают и задумываются часто. Вот и у Аси вся трагедия несбывшейся жизни ушла в подтекст. Она искала работу, пыталась решить проблему одиночества, но потом поняла, что ее никак не решить — разве что перевести в другую плоскость, и перестала думать о том, что человека одиночество калечит. Человека все может покалечить: нищета и богатство, лекарства, вакцины, религия и воинственный атеизм, критическое мышление и его отсутствие, швейная игла и даже обычный блин. У ее знакомой муж подавился блином и умер. В одночасье…
Иногда Ася брала мысленно линейку и пыталась измерить, насколько приблизилась к Богу, стала ли она лучше, тяжело страдая, и понимала, что никуда она не приблизилась и чувствовала себя бабочкой, а если точнее — мухой, которая летела на свет и обожгла себе крылья.
«Люди не меняются, — радикальничала Ася. — Homo sapiens в этом смысле недалеко ушел от пещерного человека. И если прогресс существует, то, скорее, в утилитарном смысле. Обезьяна, сидящая на золотом унитазе, — это то, к чему пришло человечество в двадцать первом веке. В Древнем Риме, кстати, уже были водопроводы, люди посещали бани, а в Сыктывкаре, столице Республики, до сих пор полно ветхих домов без всяких удобств… Прогресс налицо. Чем ленинские монументы лучше „Пьеты“ Микеланджело? Почему Платона называют философом будущего? Чем нынешние элиты выгодно отличаются от совета знати в древних Афинах? Или, может, у нас стало больше прав и свобод, чем в период афинской демократии?..»
Рассматривая тучных красавиц Рубенса в иллюстрированном журнале, ловила себя на мысли: «Спасет ли мир красота?» По радио, телевизору много говорили про новые технологии, искусственный интеллект как отдельное направление компьютерных наук. Но не породит ли внедрение ИИ огромные проблемы? Ведь ИИ — это бездушная машина, не способная на жалость и сострадание. У него нет внутреннего мира, чувств, эмоций, воли, зато он умеет все просчитывать и никогда не ошибается. И если люди перестанут рисовать картины, сочинять музыку, писать книги — к любому делу относиться творчески, а не формально, то не отправит ли ИИ человека на «остров сломанных игрушек»?
Однажды Ася додумалась до того, что Олег, купив сыну компьютер, запустил механизм разрушения, и «съел» его, как языческий бог Сатурн… Эту темную сторону человеческой природы максимально честно показал на своей картине Франсиско Гойя. «Это все твои дикие фантазии! — возмутился бы, наверное, Олег, „прочитав“ ее мысли. — Я лучше тебя знаю свои грехи, но того, что ты мне приписываешь, точно нет. Но от этого ни сыну, ни тебе, ни мне не легче…»
Сколько бы ни кружила Ася по лабиринтам мысли, она всегда возвращалась к своему горю. Ее мучило сознание того, что она не нашла вовремя хорошего психолога для сына. Ее остановило объявление в интернете одной практикующей дамы, которая занималась ангелотерапией. Ася до этого думала, как в том анекдоте, что связь с ангелами устанавливают киллеры… А когда понадобилась помощь психиатра, она побоялась сразу идти в клинику. На слуху были страшилки про карательную психиатрию, что отчасти было не лишено справедливости. Советская психиатрия, как и дореволюционная, следует по стопам основателя «киборг-психологии» — немецкого психолога Германа фон Гельмгольца. Согласно этому учению, человек — это машина. У него нет ни души, ни психики. Доказать это невозможно, но так должно быть и точка. Советская психиатрия и не занималась никогда лечением души, а только купировала антисоциальные проявления человека тяжелыми препаратами.
Ася хотела гуманного отношения к больному. Мягкая обстановка, отсутствие тяжелых препаратов, главное — «не навредить». Применял же Зигмунд Фрейд в своей практике разговорное лечение, когда пациент в ходе беседы раскрывался, говорил о том, что хотел скрыть, и освобождался от черной риторики, растворившейся, как наркотик, в его воспоминаниях. Фрейд в этом смысле не был жестким материалистом и признавал независимость психических процессов.
Была еще дазайн-терапия, связанная с учением немецкого философа Мартина Хайдеггера. Сильная дазайн-терапия предполагает, что когда человек испытывает чувство страха или заброшенности — это нормально. Только машина бывает бесчувственной, а человек — не кусок железа. Прежде чем научиться любить, ему надо пройти через огонь, воду и медные трубы. И с этим спектром эмоций и чувств надо просто жить. Опыт, как правило, обогащает человека, делает его способным преодолеть то, что другому кажется не под силу или пугает. Но дазайн-терапия — это в далекой Швейцарии и за большие деньги… А вести изысканные беседы с местными психиатрами сын не желал: «Меня изгнали, мама. Я — отсутствующий персонаж. Меня здесь нет».
Однажды Ася получила от Олега странное письмо: «Давно и очень плохо сплю, тяжелые сны, беспокойство… Утром еле встал, опаздывал на работу. Был не собран, рассеян, не увидел машины при выезде — ослепило встречное солнце, в результате сильный удар тяжелого джипа слева. Моя машина разбита… Сработали подушки, так что травм нет. Но очень дурно на душе…
Со стороны тебе могло казаться, что я хочу карьеру, но мне всегда нужен был масштаб, размах. Мне важно было, что в руках был ресурс и я понимал смысл, знал, куда двигаться, что делать. Теперь я вижу, что это была химера. Все это никто не помнит и никто не ценит. Все кануло в никуда… А с тобой много всего было, что осталось в душе теплым светом. И среди прочего — постоянное радостное удивление от твоих работ, сюжетов, замечательных циклов. Просто ты не понимаешь их ценности… Если бы не ты и сын, я бы давно, наверное, загнулся… Кажется, уже писал тебе, что человек живет в том мире, законы которого признает. Если Бога милосердного над собой — одно, если зло и выгоду — мир другой. Какое-то время можно продолжать выглядеть для всех живым, но это уже мало что решает…» Письмо завершали стихи «старого м*дака» Владлена Гаврильчика:
Матросики дерутся,
Милиция свистит.
А звездочка с звездою
На небе говорит.
Ребенок спит в кроватке
И сосочку сосет
Во сне, и телевизор
О нежности поет.
Вот швейная машинка
Мерцает при луне,
Цветы благоухают…
И грустно, грустно мне.
Зачем такие драки,
Ужасный мордобой,
Такая некультурность.
Зачем? О, Боже мой!
А потом он приехал — двадцать лет спустя. До этого «чрезвычайного происшествия» Ася полагала, что если им суждено еще когда-нибудь встретиться, так это в аду, у ледяного озера Коцит. Остановился в гостинице, вечером заглянул в гости — на тридцать две минуты. (Ася, пока Олег пил чай с пастилой, смотрела на часы с кукушкой.) Поговорили о погоде, затем папа зашел в комнату сына, послушал краем уха его взволнованный монолог, сказал Асе, что мальчик болен, сам не может выбраться и ему надо помочь. «Это лечится только лекарствами», — добавил он и уехал, закрыл гештальт.
А на другой день после его отъезда пропал кухонный нож. Сын пришел домой поздно вечером — на нем лица не было… И тогда Ася стряхнула морок и развеяла по ветру. Она вызвала скорую, дала согласие на принудительную госпитализацию сына, хотя понимала, что он никогда ей не простит предательства.
Через два месяца его выпустили. Врачи посоветовали ей оформить на сына инвалидность, так как он не сможет социализироваться. Это был приговор. Но Асе нечего было терять. Все таблетки, от которых сына трясло и выворачивало наизнанку, она выкинула в унитаз, потом долгий месяц выводила его из тяжелейшей лекарственной интоксикации, откармливала, купала в ванной, гуляла, как с маленьким, держа за руку, и… разговаривала с Ильей часами — по душам, от сердца к сердцу, и чувствовала, как тает между ними лед…
Однажды утром она испекла блинчики с маслом — тонкие, как кружева, и, пока те не остыли, пошла звать сына завтракать. Тот еще спал. Ася погладила его по ершистой голове, легонько растолкала. Ильюша спросонья пробормотал: «Любимые блинчики… Бегу». Потом добавил: «Возле мамы тепло…» У Аси екнуло в груди. Он говорил так в детстве, если хотел загладить вину. Маленький сорванец частенько рвал штаны, прыгая с крыши в снег, а после «испытаний» новой «бомбочки» приходил домой чумазый, с рассеченной бровью. Напрасно мама пыталась отшлепать его как следует. Обхватив ее, как тоненькую березку, своими грязными лапками, мальчик заводил песню на слова и музыку собственного сочинения: «Во-о-о-оз-ле ма-а-а-а-м-ы-ы те-е-п-ло-о-о-о-о…»
Еще через месяц сын нашел работу — в единстве с людьми, которые с грузом своего опыта живут рядом с нами, в реальности, здесь и сейчас, влюбляются, женятся, ссорятся, мирятся… Постепенно Илья стал поворачиваться к миру лицом. Когда принес домой свою первую зарплату, Ася вздохнула с облегчением: сын оторвался от маминой юбки. От этих мыслей ей впервые за долгие годы стало на душе светло…