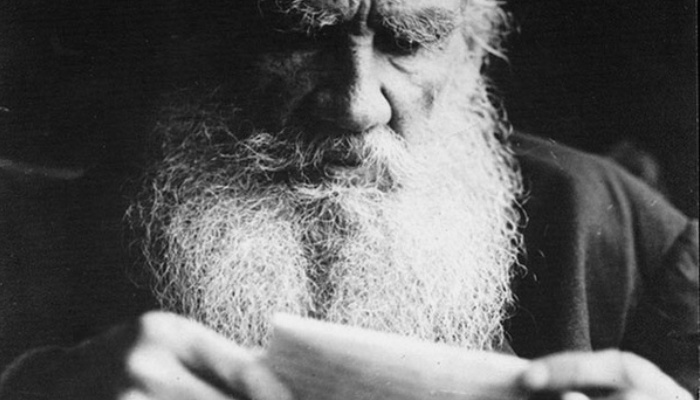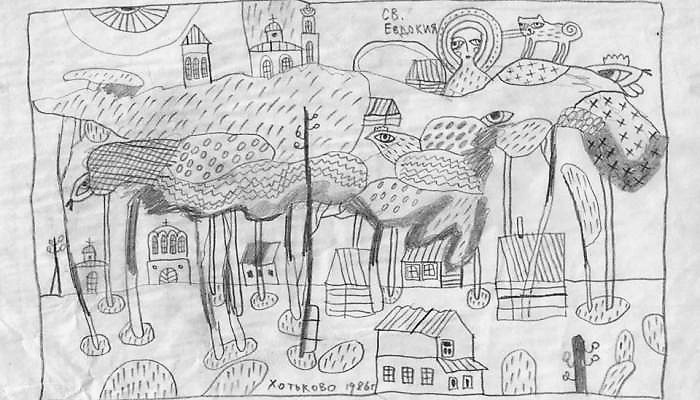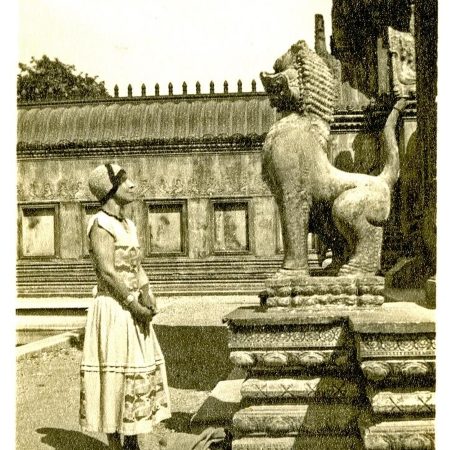Смута и ясность болдинской осени
11 сентября 2023 Александр Зорин
Из книги «Выход из лабиринта» (2005).
«О, страшных песен сих не пой / про древний хаос, про родимый» — этому тютчевскому заклятию предшествовало: «Не пой, красавица, при мне / Ты песен Грузии печальной».
Печаль — крайнее состояние души, но еще не безнадежное. И Пушкин чувствовал шевелящийся хаос и природное родство с ним, но трезвость духа, взыскующая абсолютной гармонии, разрывала природные узы и позволяла не договаривать там, где ужас — древний ли, современный — очевиден. УЖАСНОЕ слишком бросается в глаза и потому саморазоблачительно. А ПРЕКРАСНОЕ — сокровенно и доступно лишь чистому взору, чистому помыслу, воспитанному на милости к падшим. «Цель художника — по Пушкину — есть идеал…» Не эстетический, а человеческий. «Человеческий идеал в творчестве немыслим без стремления к нему и в жизни», — пишет В. Непомнящий в книге о Пушкине «Поэзия и судьба». Жизнь Пушкина, особенно в конце, после женитьбы, мучительно и непреклонно устремлена в этом направлении. Как будто «родимый хаос» в его судьбе сбрасывал ветхие одежды, уступая место духовному родству — Космосу. (Космос — от греч. порядок, упорядоченность: строение, устройство…)
Жене он писал: «Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным». Более способным к различению добра и зла, более упорядоченным в поведении и справедливым; приближает, несмотря на «зависимость», к действительной свободе. К тому же, свобода — это прежде всего духовная категория, дающая возможность почувствовать ее (обрести) и в стесненных обстоятельствах.
Одно из первых стихотворений болдинской осени тридцатого года — «Бесы». Беглые наброски «Бесов» появились еще раньше, примерно за год до болдинского уединения, невольная продолжительность которого помогла завершить многие замыслы.
Душевная смута не покидала Пушкина, когда он отправился в деревню устроить денежные дела, чтобы обеспечить приданое невесте. Предполагая скоро обернуться, он застрял в деревне на три месяца. Безотчетно, он, может быть, мечтал о задержке, но, конечно, не столь продолжительной. Осень его время, пора его литературных занятий, а приходилось хлопотать о житейских нуждах… «Все это не утешительно. Еду в деревню, — пишет он П.А. Плетневу, — Бог весть, буду ли там иметь время заниматься и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме эпиграмм на Каченовского».
Женитьба обязывала к новому положению, и не только в свете. Семья, Дом, чего он был лишен с детства, — притягивали упорядоченной жизнью. «То ли дело, братцы, дома!» — выдохнулось в минуту дорожных мечтаний.
«Бесы» — самый точный снимок душевного состояния в эти дни: неведение, страх, потерянность, мистический ужас и надрыв, вообще-то ему несвойственный.
Космос причастен хаосу, из которого рождается, образуя духовную сущность видимого мира. А в «Бесах» ничего «не видно», кроме близких земных реалий: коней, верстового столба… Тесное, клубящееся пространство — протооблако, пронизанное демоническим светом. Но вот сверкнул огонек… Что это — звезда, глаз хищника или свеча в церковном окошке (как в «Метели»)? Ничего еще не понятно… «Черт меня догадал бредить о счастии, как будто я для него создан», — восклицает он в том же письме.
Свадьба тоже под вопросом… Уезжая, он поссорился с будущей тещей — она довольно грубо заявила о денежных условиях. «Я уезжаю… — пишет он невесте, — не зная, что меня ждет в будущем… Ко всему стоит добавить холеру, рыщущую в округе и вплотную подступившую к Москве… Словом: „Сил нам нет кружиться доле…“»
В черновом наброске возглас «Пошел, пошел…» повторяется десять раз! Это возглас несдающейся воли, усилие вырваться из хаоса, из круговерти, в которой «ничего не создашь»…
«Сбились мы, что делать нам!» (В «Пире во время чумы», здесь же написанном, опять: «что делать нам!») — роковой вопрос, на который сам же ответит всей оставшейся жизнью. В этом вопросе жажда Верховного смысла, Высшего закона, которые отнюдь не исключают и упоения в бою. Закона, уравнивающего душевный покой с динамическим равновесием:
«И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы».
Следом за «Бесами» на другой день он пишет «Элегию», в которой колеблются смутное осознание вины, попытка раскаяния, мерцающая надежда. Ее великое «быть может» окрыляет Пушкина накануне получения письма от Натали: она обещает выйти за него и без приданого… Это письмо развеяло тучи над головой. Кто знает, получи он его двумя днями раньше, были бы написаны «Бесы» и «Элегия»?.. Словно карантины, обложившие Болдино со всех сторон, «работали» на русскую культуру; и задержали письмо для того, чтобы там, в неведении и тревоге, родились стихи, пославшие пророческий импульс русской литературе. Достоевский возьмет из них эпиграф к своим «Бесам».
Вскоре пришли еще письма… Будущее определялось… Желания, кажется, исполнялись… Он уже рвется в Москву, в свой Дом, но помехи возвращали к письменному столу. Написана 8-я песнь «Евгения Онегина», явившая русскому обществу образец Жены. Татьяны «верный идеал» подаст пример другим женским образам — Маше из «Дубровского», Марии Гавриловне из «Метели».
В конце октября снова возникает метельный сюжет, в круговерти которого открывается ясный замысел. Это новелла «Метель». Прежнее написание «Мятель» точнее дает семантику этого слова. Мятель-мятеж, слова и явления одного корня. Вспомним лермонтовское: «А он, мятежный, ищет бури…». Только Пушкин в пору семейной жизни бурь не искал. Скорее, они его искали, провоцируя направленное сопротивление. Пушкин «властно преображает мир, в который его погружает судьба, вносит в него свое душевное богатство, не дает „среде“ торжествовать над собой» (Ю.М. Лотман).
И свободы, в отличие от Лермонтова, он тоже не ищет. Она — в пушкинской натуре. Но сейчас, на пороге новой жизни, он как бы узаконивает ее нравственным ограничением, истинным родственным кругом.
«И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанн. 8.32.) — внушала арфа серафима, которой с недавних пор «внемлет в священном ужасе поэт».
Что же происходит в «Метели», рассказе, казалось бы, искусно выстроенном, а на самом деле прихотливо и естественно разросшемся из одного зернышка. Это зернышко и есть заповедный закон — заповедь, преступать которую недопустимо. Это понимают двое молодых людей, Мария Гавриловна и Бурмин, якобы случайно поставленные пред аналоем. Супруги, венчаясь, дают обет верности. Таинство брака соединяет их навеки. Недаром говорится, что браки совершаются на небесах. Человек не волен расторгнуть то, что скрепляется свыше. Или, как учит Христос: «…что Бог сочетал, того человек да не разлучает». (Мк. 10.9.)
Обстоятельства свели их в смутное для каждого время. Марья Гавриловна в ту пору была романтически влюблена… Бурмин, гусар и повеса, не придавал значения своим легкомысленным поступкам. Метель, разыгравшаяся в роковую ночь, давно уже захлестнула их сердца. И сейчас явилась воплощением хаоса, того самого «родимого», близкого душе русского человека. Герцен остроумно подметит эту близость, зависимость душевного состояния от… погоды.
Итак, венчанные не по любви, а по обстоятельствам, Бурмин и Марья Гавриловна расстаются надолго. Та же метель разбросала их. Однажды они почувствуют, что любят друг друга. Между этими событиями — венчанием и любовью — прошло, пролетело смутное время. Но метель улеглась, обстоятельства прояснились, и оказалось, что оба не нарушили обета. Оба оставались верны в эти годы — кому? Друг другу? Не только! Чему? Долгу! — который не был для них пустой формальностью. Он-то и свел их в конце концов в настоящей любви, высвободил из круговерти. Ничего фатального нет в этой истории. Она закончилась так счастливо потому, что в ней участвовали человеческая воля и верность.
В преддверии свадьбы Пушкин явно сознавал чудесную силу нравственного долга, убежденный в том, что настоящая любовь — итог жизни, плод неукоснительной верности. Только верные долгу: Богу друг в друге — обретают себя и друг друга; тогда многое становится понятным и как будто обусловленным, даже «бессмысленное» прошлое.
Обостренный интерес в наше время к Наталье Николаевне, к их «семейной ситуации» вызван стремлением соотнести идеальный и реальный план жизни, жгучей потребностью в претворенном идеале.
На пороге новых событий, делая решительный шаг, Пушкин нуждался в настоящей опоре. «Средь горестей, забот и треволненья», среди шевелящегося хаоса жизни проступала сокровенная реальность, отвечающая чаяниям его духа. Она обнаруживается во многих вещах, написанных здесь.
Сюжет «Выстрела» так же закручен и в итоге так же прозрачен. Отчетливость замысла вырастает из загадочного действия, отчасти от нас сокрытого, потому что совершается в душе героя.
Оскорбленный человек не видит выхода из своего положения, кроме как через смерть обидчика. Вся жизнь его подчинена единственной цели — отмщению, ради чего он терпит новые унижения и недоверие товарищей. Изо дня в день он упражняется в стрельбе, в способе, которым накажет злодея. Он достиг искусства в древнейшем из человеческих деяний: целиться и попадать в цель. Загадочна эта способность: бить навскидку и не промахнуться… Чего здесь больше — точности глаза или сокрушительно-направленной воли, по которой пуля уносится, как по ружейному стволу? Сильвио — герой повести — обладал тем и другим. Пушкин знал такого человека в жизни — Толстого (Американца), отчаянного дуэлянта, с которым должен был стреляться, но, слава Богу, дело кончилось миром. А вскоре Пушкин попросит бывшего противника сватать за него Н.Н. Гончарову.
Сам не раз участвовавший в дуэлях, Пушкин мог усомниться, смывает ли кровь нанесенное оскорбление? И насколько оправдывается — очищается! — честь того, кто получил сатисфакцию?.. Нет, смертью обидчика удовлетворения не получишь… Но вывод этот дается опытом героической жизни, которая (здесь я имею в виду героя повести), однако, еще не знает сострадания. В какие-то минуты черты его лица были настолько устрашающи, что «придавали ему вид настоящего дьявола».
И вот наступает день, когда возмездие должно совершиться. Легкомысленный граф, давший некогда пощечину Сильвио, только что женился, счастливое будущее открывалось перед ним. В этот момент и является Сильвио, чтобы по праву чести вернуть должнику свой выстрел, короче — пристрелить графа.
Немезида — грозная и неподкупная — всегда безжалостна. Греческой богине возмездия неизвестно евангельское откровение, возвестившее, что «милость превозносится над судом» (Иак. 2.13.). На ее лице, как на лице Сильвио, можно увидеть дьявольскую печать.
Интересно, что Булгаков, автор «Мастера и Маргариты», запечатлевший в романе появление Немезиды в нашей стране, считал, что она прилетела из иных миров (и улетела туда же). Правда, он ее изобразил в гротескном стиле, шаржированно и не очень страшной. Совграждане, испорченные квартирным вопросом, растеряли последние остатки совести, и чувству справедливости не осталось места в их земном устроении. Вот почему Немезида, ратующая за справедливость, привлечена писателем из иных миров. Материалисты, идеологи новой веры, утверждали, что совесть — буржуазный предрассудок. Справедливо то, что выгодно правящему классу, а нравственные законы — выдумки мракобесия, то есть религии. Но в пушкинское время с совестью считались, она могла обнаружиться даже у последнего мерзавца.
Что есть совесть? Приведу цитату из словаря Даля, современника Пушкина: «СОВЕСТЬ — нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в человеке, внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; чувство, побуждающее к истине и добру, отвращающее от лжи и зла; невольная любовь к добру и к истине; прирожденная правда, в различной степени развития» и так далее. Русская пословица гласит: «Добрая совесть — глас Божий». И правда, если шум внешнего мира заглушает голос Бога, отголоски Его слышны в доброй совести.
Сильвио, годами лелеявший в сердце месть, был по-своему совестлив и, как видно из его поступка, не отказывал в совести своему врагу. Он, бесстрашный и справедливый, дал снова выстрелить в себя и внезапно понял, ЧТО на самом деле может наказать человека. Он решил не стрелять в графа, он произнес: «Предаю тебя твоей совести». Простил ли он графа? Нет. Но мстить отказался. Это внезапное решение, конечно, было подготовлено невидимой и долгой работой души. Казалось, она трудилась в единственном направлении, а в решительный момент повела себя противоположно. Сильвио предал своего обидчика на суд совести, то есть на суд Божий.
Пушкинская коллизия — не просто сцепление различных характеров, но конфликт и разрешение идей, имеющих начало в Благой вести. Напрашиваются далекие, но не беспочвенные параллели. Впрочем, мы живем в христианской истории, и наша жизнь так или иначе соотносится с евангельскими событиями. К примеру, юноша Савл, олицетворявший собою карающую десницу, вдруг становится защитником тех, кого недавно карал. Разумеется, пушкинскому герою далеко до апостола, но и в нем произошли удивительные изменения. Апостол Павел, кстати, очень похоже обошелся со своим обидчиком: «Александр медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его». (2 Тим. 4.14) Выносить приговор — прерогатива Бога. Он к Нему и отсылает медника Александра, уверенный, что через совесть или иным путем Господь его вразумит. При вмешательстве Бога не исключены неожиданные результаты. Преступник может переродиться. Ведь что-то же изменилось в характере некогда циничного графа — без тени насмешки вспоминает он поступок Сильвио.
К совести взывает Христос, когда обращается к толпе, требующей справедливого возмездия для женщины, уличенной в прелюбодеянии. «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень» (Иоан. 8.7), — сказал Он. Каково же было нравственное чутье у этих людей, не знавших Христа, если они ВСЕ признали себя небезгрешными, не имеющими права убивать, — и камня не бросили. Разошлись, оставив грешницу наедине с Богом и с собственной совестью.
Развязка затянувшегося поединка между графом и Сильвио происходит на глазах молодой жены, в атмосфере счастливого брака. Мысли о будущей семейной жизни не отпускали Пушкина. Все повести Белкина, а они написаны здесь, в Болдино, как-то связаны темой брака. Даже в «Гробовщике» она оказывается отправной точкой фантасмагорических приключений — гробовщик напивается на серебряной свадьбе соседа-сапожника.
Сентябрь, октябрь, ноябрь 1830 года вовсе не были для Пушкина идиллическим временем. Душевный покой давался ему непросто. Особенно это заметно по письмам. «Невеста перестала мне писать, — жалуется он Плетневу, — и где она, и что она, до сих пор не ведаю. Каково? то есть, душа моя Плетнев, хоть я и не из иных прочих, так сказать, но до того доходит, что хоть в петлю. Мне и стихи в голову не лезут, хоть осень чудная, и дождь, и снег, и по колено грязь». За эти месяцы он многое передумал, подведя итоги бурной молодости. «Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей». (Это уже совсем перед свадьбой.) Способный обуздывать свою природу, он с чем-то решительно порывал ввиду иного уклада жизни. Это та самая решимость, с которой Сильвио отказывается от убийства и пуля в пулю ставит точку там, где другой пребывает в прострации. Не целясь, навскид, Сильвио пригвождает свою попытку решить конфликт без Высшего Судии.
Совесть имманентна человеческой природе. В благоприятных условиях она развивается, как плод из эмбриона. Наверное, это имел в виду Тертуллиан, полагая, что каждая человеческая душа от рождения христианка. Но развитие плода бывает таинственным и незаметным. Часто мы оказываемся свидетелями уже завершившегося плодоношения. Как это и было той осенью — тревожной и благословенной.